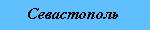
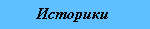

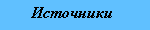
Обращаюсь к третьей части вопроса о значении реформы Петра, к вопросу о том, что сделали из этой реформы по смерти преобразователя. Определяя это значение, как вы припомните, я сделал оговорку, что оно не вполне выражается в явлениях, наблюдаемых в пределах жизни Петра, что в оценку его дела должны войти следствия реформы, обнаружившиеся по смерти преобразователя. Эти следствия проливают дополнительный и яркий свет на реформу, освещая ее с новой стороны, остававшейся в тени для самого Петра. Не достигнув всего, к чему направлялась реформа, она принесла или подготовила много такого, чего не предвидел преобразователь и чему, может быть, он не был бы рад, если бы предвидел. Попытаемся представить себе русское общество, каким покидал его Петр.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Для того чтобы понять настроение русского
общества в минуту смерти Петра, нелишним будет припомнить, что он умер, начав
второй мирный год своего царствования, через пятнадцать месяцев по окончании
персидской войны. Выросло целое поколение, которое знало и чувствовало новыми
налогами и рекрутскими наборами, что Русь все воюет - с турками, со шведами, с
персами, даже сама с собой, с астраханцами, казаками. Наконец-то она ни с кем не
воюет. С Ништадтского мира международное положение России было довольно прочно,
хотя и несколько щекотливо. Швеция, главный враг ее, долго могла только бредить
об отместке; к тому же у нее не случилось и маленького Густава Адольфа, каким
был Карл XII, а после его смерти восстановление власти аристократического сената
сделало Швецию настоящей анархической Польшей, по отзыву тогдашнего русского
резидента в Стокгольме. Оборонительный союз со Швецией 22 февраля 1724 г.
ограждал правый северный фланг европейского положения России. Вскоре, в августе
1726 г., союзом с Австрией укреплен был и левый южный фланг, после того как
правительству Екатерины I не удалось продать Франции русские интересы за
надоевший всему дипломатическому миру брак дочери Петра Елизаветы с французским
королем или хотя бы с каким-нибудь завалявшимся французским принцем крови. Среди
складывавшихся тогда двух коалиций, австро-испанской и англо-франко-прусской,
международное положение России с ее преобразованными силами не внушало русским
патриотам больших тревог. Сухопутная русская армия пользовалась полтавским
почетом на Западе, и пока русский флот донашивал свои гангудские паруса, Россия
считалась даже солидной морской державой. Петербург стал дипломатической
столицей европейского Востока. Менее удобны были культурные отношения России к
Западу. Перед старой романо-германской Европой с выработанными формами
общежития, с нормами порядка, превратившимися в общественные привычки и даже в
предрассудки, с громадным запасом знаний, идей и материальных сбережений,
накоплявшихся чуть не со времен Ромула и Рема, предстала новая русская Европа с
одними способностями, подававшими только надежды, с большим количеством рекрутов
и вывозного сырья, но без прочных культурных запасов: общежитие держалось только
бытовой косностью, покоившейся на вере в стихийную неизменность отцовского и
дедовского предания; вместо порядка существовала только привычка повиноваться до
первого бунта, вместо знания одна любознательность, только что пробудившаяся;
все юридическое сознание заключалось лишь в смутном чувстве потребности права,
все богатство - в способности к терпеливой работе. И эти столь несоизмеримые
исторические величины, как Россия и Западная Европа, стали не только соседками,
но и соперницами, вошли в разнообразные прямые соприкосновения и даже вступали в
столкновения; по крайней мере одна вовсе не расположена была щадить другую, а
другая силилась не отстать от первой из страха стать ее жертвой. В этом интерес
первой встречи глаз на глаз Западной и Восточной Европы. Здесь прежде всего
важно уяснить себе, что мы наблюдаем - отношение ли двух культур, передовой и
отсталой, которые будут вечно разделены раз установившимся расстоянием, или
только встречу разных исторических возрастов со случайным и временным культурным
неравенством. Для этого попытаемся представить себе русское общество, сколько
это возможно, в минуту смерти Петра, настроение его низа и верха, отношение того
и другого к реформе.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ СМЕРТИ ПЕТРА.
Очевидцы, свои и чужие, описывают
проявления скорби, даже ужаса, вызванные вестью о смерти Петра. В Москве в
соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновного наблюдателя, за панихидой
«такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выть и
горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи
не видал и не слыхал». Конечно, здесь была своя доля стереотипных,
церемониальных слез: так хоронили любого из московских царей. Но понятна и
непритворная скорбь, замеченная даже иноземцами в войске и во всем народе. Все
почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, а
вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелился
тревожный вопрос: что-то будет дальше? Под собой, в народной массе реформа имела
ненадежную, зыбкую почву.
ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К ПЕТРУ.
Во все продолжение преобразовательной
работы Петра народ оставался в тягостном недоумении, не мог уяснить себе
хорошенько, что такое делается на Руси и куда направляется эта деятельность: ни
происхождение, ни цели реформы не были ему достаточно понятны. Реформа с самого
начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к
народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами: 1) она довела
принудительный труд народа на государство до крайней степени напряжения и 2)
представлялась народу непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного уклада
русской жизни, освященных временем народных привычек и верований. Этими двумя
сторонами реформа и возбудила к себе несочувственное и подозрительное отношение
народной массы. Своеобразную окраску сообщали этому отношению два впечатления,
вынесенные народом из событий XVII в. Тогда народ в Московском государстве видел
очень много странных вещей: сначала перед ним прошел ряд самозванцев, незаконных
правительств, которые действовали по-старому, иногда удачно подделываясь под
настоящую привычную власть; потом перед глазами народа потянулся ряд законных
правителей, которые действовали совершенно не по-старому, хотели разрушить
заветный гражданский и церковный порядок, поколебать родную старину, ввести
немца в государство, антихриста в церковь. Под влиянием этих двух впечатлений и
складывалось народное отношение к Петру и его реформе. Народ по-своему взглянул
на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развились две легенды о
Петре, в которых всего резче выразилось отношение народа к реформе, которыми
даже в значительной степени определились ее ход и результаты: одна легенда
гласила, что Петр - самозванец, а другая, что он - антихрист.
СКАЗАНИЕ О ЦАРЕ-САМОЗВАНЦЕ.
Когда стали обнаруживаться признаки
глухого и упорного противодействия реформе со стороны народа. Петр для
подавления его учредил тайную полицию, Преображенский приказ, названный так по
имени подмосковного села, где впервые возникло это учреждение. От этого приказа
до нас дошло немало любопытных дел, которые служат материалом для изучения
народного настроения при Петре. Эти канцелярские бумаги наглядно представляют
нам возникновение и развитие обеих легенд. Та и другая имела свою историю,
прошла известный ряд моментов в своем поэтическом движении, представляя притом
редкий вид народного творчества, пропущенного сквозь фильтр тайной полиции.
Первоначальную мысль, основной мотив легенды о самозванстве Петра подсказали те
наблюдения, которые поразили народ с самого начала царствования Петра. Петр
прежде всего дал народу почувствовать свою Деятельность новыми государственными
тягостями. Государственные тягости не были новостью для народа: их больно
чувствовали и в XVII в., но тогда за них винили не самого царя, а его
правительственные орудия. Царь сидел где-то далеко и высоко над народом, редко
являлся перед ним и был окружен в народном представлении ослепительным ореолом
неземного величия. Все, что делалось непопулярного в государстве, приписывалось
тому средостению, какое отделяло царя от простых подданных, т. е. боярскому и
приказному правительству. Петр впервые спустился с заоблачной высоты, на которой
скрывались его предшественники, вошел в непосредственное соприкосновение с
народом, стал перед ним, каким был, перестал быть для народа политическим мифом,
каким представлялись ему прежние цари. Народный ропот теперь и направился прямо
против царя. Петр явился перед народом простым человеком, совсем земным царем.
Но какой это был странный царь! Он предстал перед народом с таким непривычным
обликом, с такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в короне и не в
порфире, а с топором в руках и трубкой в зубах, работал, как матрос, одевался и
курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский
офицер. При виде такого необычного царя, совсем непохожего на прежних
благочестивых московских государей, народ невольно задавал себе вопрос: да
подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя.
Вопрос вызвал усиленную работу народного ума, точнее, народной фантазии. Бумаги
Преображенского приказа дают возможность проследить все фазы народного
воображения, развивавшего легенду из указанного зерна. Народные жалобы растили
это зерно, питали фантазию. Прежде всего народная мысль остановилась на самом
вопросе. Пошли народные толки, подслушанные полицией. Крестьяне жаловались: как
бог его нам на царство наслал, так мы и светлых дней не видали; тягота на мир,
рубли да полтины да подводы; отдыха нашей братье крестьянству нет. Сын боярский,
подслушавший этот ропот, вторил крестьянину своими сословными горями: какой он
царь Всю нашу братию на службу выволок, а людей наших и крестьян в рекруты
побрал; никуда от него не уйдешь, все на плотах распропали (на морских
постройках); и как это его не убьют? Как бы убили его, так бы и служба
миновалась и черни стало бы легче. Солдатские жены развивали свою особую
консервативную публицистику: какой он царь! Мужей наших в солдаты побрал, всех
крестьян с дворами разорил, а нас с детьми осиротил и век плакать заставил.
«Какой он царь!» - подхватывал холоп: он враг, оморок мирской; однако сколько
ему по Москве ни скакать, а быть ему без головы. «Мироед! - вопияли другие. -
Весь мир переел, все переводит добрые головы; только на него кутилку переводу
нет». Этому хоровому всесословному протесту сам Петр помог перейти от вопроса о
его загадочной личности к ответу, поддержал полет народной фантазии. Царь вел
странный образ жизни и делал странные дела: переказнил стрельцов, сестру и жену
запер в монастырь, сам все возился и пьянствовал в Преображенском с иноземцами,
после нарвского поражения колокола стал снимать с церквей и переливать в пушки.
Монах грозил: все-де это даром не пройдет, не добром кончится все это. Отсюда и
извлекли ответ на поставленный вопрос. Прежде всего поспешили догадаться, что
царя немцы испортили; нервность и вспыльчивость Петра поддерживали догадку.
«Немцы обошли его: час добрый найдет - все хорошо, а в иной час так и рвет и
мечет: вот уж и на бога наступил, с церквей колокола снимает». Притом заговорило
раздраженное национальное чувство под гнетом непрекращавшегося наплыва и влияния
иноземцев. Но все это не давало удовлетворительного ответа на главный вопрос:
казалось невероятным, каким образом мог явиться на Руси такой царь, хоть и
порченый, который не дорожит народными обычаями и верованиями. Тут наступает
вторая фаза в развитии легенды. На вопрос является ответ тоже в виде вопроса: да
русский ли он? Он сын немки, говорили одни. Да Лаферта, подсказывали другие. Так
и додумались до сказания о самозванстве Петра: царица родила девочку, которую
подменили немчонком. Однажды полиция подслушала на портомойне в Москве такую
политическую беседу: крестьяне все измучены, все на государя встали и возопияли:
какой он царь! Родился от немки беззаконной; он подмененный, подкидыш; как
царица Наталья Кирилловна отходила сего света, и в то число она говорила ему:
ты-де не сын мой, ты подменный; вот велит носить немецкое платье - знатно, что
от немки родился. От этого соображения и отправляется легенда в своем дальнейшем
развитии, по-своему связывая явления времени. Поездка Петра за границу указала
ей направление и облегчила движение. Петр начал заводить новшества, бороды
брить, платье немецкое вводить, царицу свою Авдотью Федоровну отставил, немку
Монсову взял, проклятый табак курить велел - все по возвращении из чужих краев.
Эта поездка к нехристям и послужила путеводной нитью для народной фантазии.
Вероятно, до русского общества дошли слухи, что шведский король Карл ХII,
покидая в 1700 г. Швецию для борьбы с Петром и его союзниками, оставил дома
сестру свою Ульрику-Элеонору, которая впоследствии по смерти брата стала его
преемницей. Слыхали также, что в Риге шведское начальство в 1697 г. наделало
Петру каких-то неприятностей, не пустило его осмотреть рижские укрепления.
Народная фантазия воспользовалась этим, чтобы отлить слухи в целое сказание.
Петр поехал за границу - это так; да Петр ли воротился из-за границы? В ответ на
этот вопрос уже к 1704 г. сложилась такая сказка. Как государь с ближними людьми
был за морем, ходил он по немецким землям и пришел в Стекольное царство
(Стокгольм), а то Стекольное царство в немецкой земле держит девица, и та девица
над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду да, сняв его с тое
сковороды, велела бросить в темницу. И как та девица была именинница, стали ей
говорить ее князья и бояре: пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его,
государя. Она им сказала: подите посмотрите, коли он еще жив валяется, я его для
вас выпущу. Те, посмотря, сказали ей: томен, государыня. - Ну, коли томен, так
вы его выньте. И они, его вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, а они,
перекрестясь, сделали бочку, набили в нее гвоздья да в тое бочку хотели его,
государя, положить. Уведал про то стрелец и, прибежав к государю, сказал:
царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою
чинится. И он, государь, встал и вышел, а стрелец лег на его место. Пришли бояре
да того стрельца, с постели схватя, положили в тое бочку и бросили в море.
Легенда в первое время не договаривала до конца, не знала, что сталось дальше с
государем. Но потом к сказанию прицепили и конец, стали говорить в народе: это
не наш государь, это немчин; наш государь в немцах в бочку закован да в море
пущен. Вскоре по смерти Петра эта сказка изменилась: Петра считали погибшим при
жизни и воскресили по смерти. Новая редакция гласила, что царствовавший государь
был немчин, а настоящий царь освободился из немецкого плена, именно освободил
его обманом русский купец, бывший в Стекольном царстве. Рассказчик добавлял: «И
как это государь до сей поры не объявится в своем государстве?»
СКАЗАНИЕ О ЦАРЕ-АНТИХРИСТЕ.
Легенда о самозванстве Петра, вся
построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тяглой среде, особенно в
той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена
указами о новых налогах и службах. Другая легенда, о Петре-антихристе, возникла
или была разработана в церковном обществе, взволнованном новшествами Никона, и
сплелась из других мотивов. Преобразовательная деятельность Петра представлялась
народу прямым продолжением того непонятного и бесцельного посягательства со
стороны правительства на чистоту родной веры и родных обычаев, какое началось
при царе Алексее. Новое иноземное платье, брадобритье и тому подобные новшества
затрагивали религиозные воззрения древнерусского общества. В конце 1699 г.
последовала новость, еще более тревожная, чем немецкое платье или табак: изменен
был русский православный календарь, велено вести летосчисление от рождества
Христова, а не от сотворения мира и новый год праздновать не 1 сентября,
по-церковному, а 1 января, как делалось у неправославных. Это новшество уж прямо
вторгалось в церковный порядок. Люди, и без того встревоженные латинобоязнью
никоновского времени, теперь еще сильнее встрепенулись на защиту старой веры. В
полиции и на улице при Петре происходили иногда очень странные сцены. Раз в 1703
г. один нижегородец, простой посадский человек Андрей Иванов, пришел в Москву с
изветом, т. е. с доносом, - на кого бы вы думали - на самого государя, что-де
он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить
немецкое, табак тянуть: во всем этом обличить государя и пришел он, Андрей
Иванов. В 1705 г. в Ярославле Димитрий, митрополит ростовский, в
воскресный день идучи к себе из собора, встретился с двумя еще нестарыми
бородачами, которые спросили его, как им быть: велено брить бороды, а им пусть
лучше головы отсекут, чем бороды обреют. «А что отрастет, отсеченная ли голова
или сбритая борода?» - переспросил владыка. В дом к митрополиту сошлось много
лучших горожан, и начался диспут о бороде, об опасности брад обритая для
душевного спасения, ибо сбрить бороду - значит потерять образ и подобие божие.
Ученому владыке пришлось написать целый трактат об образе и подобии божием в
человеке Вопрос о брадобритии разгорелся до народной агитации: в разных городах
разбрасывались подметные письма, призывавшие православных восстать за бороду.
Люди более серьезного образа мыслей не могли довольствоваться распространявшимся
в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника
его непонятных и опасных нововведений. Поддразнивая пугливую совесть пустяками
вроде брадобрития или безобразиями пьяного собора, Петр вызывал тревожные
суеверные толки о конечной гибели благочестия, о последних временах и о
необходимости вольного страдания ради спасения души. Эти толки, обращаясь на их
виновника, и породили легенду о царе-антихристе. Мы встречаем ее в Москве в
одном следственном деле уже 1700 г. Некто Талицкий, книгописец, значит, человек
сравнительно образованный, составил для распространения в народе тетради о
последнем времени и о пришествии в мир антихриста в лице государя. Тамбовский
архиерей до слез умилялся этими тетрадями, а боярин князь Хованский плакался
Талицкому на самого себя, что был ему послан мучения венец, да он его потерял,
согласившись обрить себе бороду, а потом приняв шутовское поставление в
митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение
получила легенда на олонецком и заонежском Севере, в краю, наиболее тронутом
расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще
при царе Алексее. Уже к концу XVII в. эти беглецы в своем фанатизме выработали в
борьбе с еретической церковью и антихристовым государством страшную форму
вольного страдания за благочестие - самосожжение массами. По одному идущему от
того времени староверческому сочинению насчитывали более 20 тысяч самосожженцев,
сгоревших в 1675 - 1691 гг. На глухом поморском Севере, наполненном лесами, все
известия, приходившие из Центральной Руси, отражались в искривленном виде:
напуганная фантазия превращала их в чудовищные призраки. В одном погосте
Олонецкого уезда раз священник и дьячок, вышедшие из церкви после литургии,
разговорились о том, что делается на белом свете. Дьячок сказал: вот ныне велят
летопись (летосчисление) вести от рождения Христова и платье носить венгерское.
Священник прибавил: и я слыхал в волости, что у великого поста неделя будет
убавлена, а после фоминой учнут в середы и пятки весь год молоко есть. Имея в
виду последнее средство спасения поморцев, самосожжение, дьячок сказал: как
пришлют эти указы к нам в погост и будут люди по лесам жить и гореть, и я пойду
с ними в леса жить и гореть. Священник прибавил: возьми и меня с собой; знать,
житье ныне к концу приходит. Дело относится к 1704 г. В том же году ладожский
стрелец, возвращаясь домой из Новгорода, повстречался с неведомым старцем,
который завел с ним такую беседу: ныне службы частые; какое ныне христианство!
Ныне вера все по-новому: вот у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут.
Когда зашла речь про государя, старец продолжал: какой он нам, христианам,
государь! Он не государь, а латыш, поста не соблюдает; он льстец (обманщик),
антихрист, рожден от нечистой девицы; что он головой запрометывает и ногой
запинается, и то, знамо, его нечистый дух ломает; он и стрельцов переказнил за
то, что они его еретичество знали, а стрельцы прямые христиане были, не
бусурмане; вот солдаты - так те все бусурмане, поста не соблюдают; ныне все
стали иноземцы, все в немецком платье ходят да в кудрях (париках) и бороду
бреют. Стрелец по долгу службы заступился за государя и заметил, что Петр -
царь, от царского племени. Но старец возразил: у него мать нешто царица? Она
еретица была, все девок родила. Старец был поморский подвижник древнего
благочестия, спасавшийся в лесах. На вопрос стрельца, откуда он, старец отвечал:
я из Заонежья, из лесов; ко мне летом и дороги нет, а есть только зимой, и то на
лыжах. В этом рассказе живо вскрывается настроение умов в северном Поморье. В
1708 г. ту же легенду встречаем и на юге, в Белгородском уезде (Курской
губернии). Два священника разговорились, и один сказал: бог знает, что у нас в
царстве стало: вся наша Украина от податей пропала; такие подати стали - уму
непостижные, а вот теперь и до нашей братии священников дошло, начали брать с
бань, с изб, с пчел, чего отцы и прадеды не слыхивали; никак в нашем царстве
государя нет? Этот священник в церковном молитвословии вычитал сведение, что
антихрист родится от недоброй связи, от жены скверной и девицы мнимой, от колена
Данова. Он и задумался над тем, что это за колено Даново и где это родится
антихрист, уж не на Руси ли. Однажды пришел к нему отставной прапорщик
Белгородского полка Аника Акимыч Попов, человек убогий, промышлявший грамотным
промыслом, учивший ребят грамоте. Священник и сообщил ему свое недоумение насчет
антихриста: «В миру у нас ныне тяжело стало, а в книгах писано, что скоро
родится антихрист от племени Данова». Аника Акимыч подумал и ответил: «Антихрист
уже есть; у нас в царстве не государь царствует, а антихрист; знай себе: Даново
племя - это царское племя, а ведь государь родился не от первой жены, от второй;
так и стало, что он родился от недоброй связи, потому что законная жена бывает
только первая». Так и пошло сказание о царе-антихристе.
ЗНАЧЕНИЕ ОБОИХ СКАЗАНИИ ДЛЯ РЕФОРМЫ.
Оба этих сказания, разумеется,
ставили народ в самое неблагоприятное отношение к реформе и много вредили ее
успеху. Народное внимание было обращено не на те образовательные интересы,
которым старался удовлетворить преобразователь, а на те противоцерковные и
противонародные замыслы, какие чудились суеверной мысли в его деятельности. При
таком отуманенном настроении реформа представлялась народу чем-то чрезвычайно
тяжелым, темным. Немногие в народе, видавшие царя на работе, могли оказать лишь
слабое противодействие темным толкам и пересудам. До нас дошли и такие сказания,
которые показывают, какое чарующее впечатление преобразователь мог производить
на массу своей личностью, своей работой. Один крестьянин Олонецкого края,
передавая сказания о Петре, о том, как он бывал на Севере, как он работал,
заключил свой рассказ словами: вот царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще мужика
работал. Но такое впечатление досталось в удел только немногим из народа, кто
мог наблюдать Петра в его настоящем рабочем виде или кто способен был под
оболочкой жестокой власти почуять внутреннюю нравственную силу, которою
приводилась в движение эта видимо беспорядочная и порой опрометчивая
деятельность. Один из прибыльщиков (Иван Филиппов) в записке, поданной самому
Петру, обронил меткий о нем отзыв, которому может позавидовать историк, - назвал
его «многомысленной и беспокойной главой», умеющей понимать того, кто ищет
«правды, а народу оборону». Но фантазия народного множества, которому кнут и
монах очертили дозволенные пределы мышления, нарядила Петра в самые постылые
образы, какие нашлись в хламе ее представлений. Эти легенды питали и нравственно
освящали порожденное государственными тягостями и немецкими новшествами общее
недовольство всех сословий, о котором говорят свои и чужие наблюдатели, что оно
к концу царствования достигло крайнего предела. Однако открытого восстания не
ждали за недостатком вождя и в расчете на рабскую покорность народа. Боевые
мятежные силы, какие были налицо, израсходовались на прежние бунты - стрелецкие,
астраханский, булавинский. Разоруженную тяжбу с властью народ перенес теперь в
высший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра стрельцы-раскольники
рассказывали: когда государь преставлялся, он сам про себя говорил: еще бы мне
жить было, да мир меня проклял. О великих трудах и замыслах Петра на пользу
народа в ходячих народных толках не было и помину. Реформа пронеслась над
народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой.
ВЫСШИЕ КЛАССЫ.
Высшие классы общества, стоявшие
ближе к преобразователю, были глубже захвачены реформой и могли лучше понять ее
смысл. Реформа давала им много побуждений усердно содействовать стремлениям
Петра. Многообразными нитями эти классы успели связаться с западноевропейским
миром, откуда шли преобразовательные возбуждения. Правительство, комплектуемое
из этой среды, волей-неволей должно было поддерживать созданное Петром
влиятельное положение России в Европе, а для успеха дипломатических сношений не
ослаблять и культурных связей с нею. В ту же сторону тянули и перемены в
социальном и племенном составе этих классов. В правительственном кругу при Петре
удержались скудные остатки старой московской знати: несколько князей Голицыных
да Долгоруких, князь Репнин, князь Щербатов, Шереметев, Головин, Бутурлин - вот
почти и все представители родословного боярства, ставшие видными дельцами при
Петре. Ядро правительственного Класса, слагавшегося в XVII в., образовалось из
высшего столичного дворянства, из царедворцев, как его звали при Петре, -
Пушкиных, Толстых, Бестужевых, Волынских, Кондыревых, Плещеевых, Новосильцевых,
Воейковых и многих других. Сюда шел непрерывный приток из провинциального
дворянства, к которому, например, принадлежали Ордин-Нащокин при царе Алексее,
Неплюев при Петре, даже из «убогого шляхетства» и из слоев «ниже шляхетства»,
каковы были Нарышкины, Лопухины, Меншиков, Зотов, наконец, прямо из холопства -
Курбатов, Ершов и другие прибыльщики. В 1722 г. именитый купец Строганов был
пожалован в бароны. Вторжение этих новиков в чиновные ряды, не содействуя
единодушию правящего класса, разрушая его генеалогический и нравственный состав,
все же вносило туда некоторое оживление, похожее на соперничество, отучало от
боярской спеси и стольничьей рутины. Рядом с выслужившимися доморощенными
новиками становилось и получало важное значение множество чужаков, инородцев и
иноземцев: барон Шафиров, сын пленного и крестившегося еврея, служившего во
дворе боярина Хитрова, а потом бывшего сидельцем в лавке московского купца;
Ягужинский, как рассказывали, сын выехавшего из Литвы органиста лютеранской
церкви, в детстве пасший свиней; петербургский генерал-полицеймейстер Девиер,
юнгой приехавший на португальском корабле в Голландию и там замеченный Петром;
барон Остерман, сын вестфальского пастора, граф Брюс, генерал Геннинг,
устроитель горных заводов инженер Миних, а потом потянутся в русскую знать
родственники Екатерины I, с трудом разысканные по литовским деревням крестьяне,
осыпанные в Петербурге титулами, чинами и богатствами, различные Скавронские,
Ефимовские, Гендриковы. Многие из этих пришельцев были люди образованные и
заслуженные, как Брюс, Шафиров, Остерман, и не были расположены порывать связей
своего нового отечества с западноевропейским миром, а своим образованием и
заслугами кололи глаза невежественному и дармоедному большинству русской знати.
ЗАГРАНИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Наконец, и начатки образования
кое-как привязывали высшие классы русского общества к тому же миру. При Петре, в
первую половину царствования, когда еще было очень мало школ, главным путем к
образованию служила заграничная посылка русских дворян массами для обучения.
Некоторые, добровольно или по указу странствовавшие по Европе, уже будучи
семейными людьми, в летах, записали свои заграничные наблюдения, показывающие,
как труден и малоплоден был этот образовательный путь. Неподготовленные и
равнодушные, с широко раскрытыми глазами и ртами, смотрели они на нравы, порядки
и обстановку европейского общежития, не различая див культуры от фокусов и
пустяков, не отлагая в своем уме от непривычных впечатлений никаких помыслов.
Один, например, важный московский князь, оставшийся неизвестным, подробно
описывает свой амстердамский ужин в каком-то доме, с раздетой дочиста женской
прислугой, а увидев храм св. Петра в Риме, не придумал ничего лучшего для его
изучения, как вымерить шагами его длину и ширину, а внутри описать обои,
которыми были увешаны стены храма. Князь Б. Куракин, человек бывалый в Европе,
учившийся в Венеции, попав в 1705 г. в Голландию, так описывает памятник Эразму
в Роттердаме: «Сделан мужик вылитой медной с книгою на знак тому, который был
человек гораздо ученой и часто людей учил, и тому на знак то сделано». В Лейдене
он посетил анатомический театр проф. Бидлоо, которого называет Быдлом, видел,
как профессор «разнимал» труп и «оказовал» студентам его части, осматривал
богатейшую коллекцию препаратов, бальзамированных и «в спиртусах». Вся эта
работа научной мысли над познанием жизни посредством изучения смерти привела
русского наблюдателя к совету всем, кому случится быть в Голландии, непременно
посмотреть лейденские «кориузиты», что-де доставит «многое увеселение». Несмотря
на отсутствие подготовки, Петр возлагал на учебные посылки за границу широкие
надежды, думая, что посланные вывезут оттуда столько же полезных знаний, сколько
он сам набрал их в первую поездку. Он, по-видимому, действительно хотел обязать
свое дворянство обучаться морской службе, видя в ней главную и самую надежную
основу своего государства, как казалось людям, имевшим сношения с русским
посольством в Голландии в 1697 г. С этого года он гнал за границу десятки
знатной молодежи обучаться навигацким наукам. Но именно море возбуждало
наибольшее отвращение в русском дворянине, и он из-за границы плакался своим,
прося назначить его хотя бы последним рядовым солдатом или в какую-нибудь «науку
сухопутскую», только не в навигацкую. Впрочем, с течением времени программа
заграничной выучки была расширена. Из записок Неплюева, не в пример
соотечественникам умно использовавшего свою заграничную учебную командировку (в
1716 - 1720 гг.), видим, чему обучались тогда русские за границей и как усвояли
тамошнюю науку. Партии таких учеников, все из дворян, были рассеяны по важнейшим
городам Европы: в Венеции, Флоренции, Тулоне, Марселе, Кадиксе, Париже,
Амстердаме, Лондоне, учились в тамошних академиях живописному искусству,
экипажеству, механике, навигации, инженерству, артиллерии, рисованию мечтапов,
как корабли строятся, боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах
биться, на лошадях ездить и всяким ремеслам, медному, столярному и судовым
строениям, бегали от науки на Афонскую гору, посещали «редуты», игорные дома,
где дрались и убивали один другого, богатые хорошо выучивались пить и тратить
деньги, промотавшись, продавали свои вещи и даже деревни, чтобы избавиться от
заграничной долговой тюрьмы, а бедные, неаккуратно получая скудное жалованье,
едва не умирали с голоду, иные от нужды поступали на иностранную службу, и все
вообще плохо поддерживали приобретенную было в Европе репутацию «добрых
кавалеров». По возвращении домой с этих проводников культуры легко свеивались
иноземные обычаи и научные впечатления, как налет дорожной пыли, и домой
привозилась удивлявшая иностранцев смесь заграничных пороков с дурными родными
привычками, которая, по замечанию одного иноземного наблюдателя, вела только к
духовной и телесной испорченности и с трудом давала место действительной
добродетели - истинному страху божию. Однако кое-что и прилипало. Петр хотел
сделать дворянство рассадником европейской военной и морской техники. Скоро
оказалось, что технические науки плохо прививались к сословию, что русскому
дворянину редко и с великим трудом удавалось стать инженером или капитаном
корабля, да и приобретенные познания не всегда находили приложение дома:
Меншиков в Саардаме вместе с Петром лазил по реям, учился делать мачты, а в
отечестве был самым сухопутным генерал-губернатором. Но пребывание за границей
не проходило бесследно: обязательное обучение не давало значительного запаса
научных познаний, но все-таки приучало дворянина к процессу выучки и возбуждало
некоторый аппетит к знанию; дворянин все же обучался чему-нибудь, хотя бы и не
тому, за чем его посылали.
ГАЗЕТА.
Петр заботился завести и домашние
образовательные средства. Для этого надобно было прежде всего вывести русского
человека из его национального одиночества, продвинуть его кругозор за пределы
его отечества. Средствами для этого Петр почитал газету и театр. По его указу с
января 1703 г. стало выходить в Москве периодическое издание Ведомости.
Через 2 - 3 дня, иногда позднее, по приходе заграничной почты выходил нумер
Ведомостей в один или несколько листков, размером в осьмушку, напечатанный
подслеповатым церковным шрифтом и излагавший «грамотки», корреспонденции
привезенных иностранных газет из разных городов Европы. Русские известия велено
было доставлять из приказов на Печатный двор (на Никольской), где печаталась
газета. В № 1, который правлен самим царем, было сообщено, между прочим, что
«повелением его величества московские школы (академия) умножаются, и 45 человек
слушают философию и уже диалектику окончили, в математической штюрманской
(навигацкой) школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют»; в Москве
ноября с 24 по 24 декабря (1702 г.) родилось мужеска и женска полу 386 человек,
а «из Олонца пишут», что тамошний поп Иван Окулов набрал с тысячу человек
охотников, перешел шведский рубеж, побил 50 человек шведской конницы да 400
пехоты, сжег до тысячи дворов и добычу отдал своим «солдатам», а «из попова
войска» только ранено 2 солдата. Не только иностранные, но иногда и русские
известия доходили до читателей московской газеты из иностранных источников в
буквальном извлечении, без подкраски и без опасения административного взыскания.
Так, из Ниеншанца на Неве за 7 месяцев до основания там Петербурга в № 1 было
напечатано шведское известие: «Мы здесь живем в бедном постановлении, понеже
Москва в здешней земле зело недобро поступает», обыватели от страха бегут в
Выборг. захватив из имущества что получше. В 1703 г. вышло 39 нумеров газеты.
ТЕАТР.
Царь Алексей пытался устроить
придворный театр в Москве с помощью выписной иноземной труппы (лекция LIII). Не
решаюсь сказать, сколь сильное действие оказала эта попытка на художественный
вкус избранного общества, приезд ко двору имевшего. Но в Москве были и свои
питомники сценического вкуса, способные служить национальной опорой этому
завозному развлечению. Князь Б. Куракин пишет, что у знатных людей его времени
дворовые их холопы на святках играли «всякие гистории смешные». В Московской
академии ставились мистерии; играли их «государственные младенцы», как
прозывались в афишах студенты академии, вызывавшиеся или командированные на роли
в этих спектаклях; прозвище объясняется присутствием сыновей московской служилой
знати в тогдашнем составе академического студенчества. В тревожные первые годы
шведской войны, едва оправившись от Нарвы, Петр хлопотал об устройстве
публичного театра в Москве. В 1702 г. выписана была за 5 тысяч ефимков в год,
тысяч за 20 рублей на нынешние деньги, странствующая немецкая труппа актеров под
управлением некоего Куншта, актера и драматурга; в состав труппы входили и
немецкие «студиозусы». На Красной площади построили для публики, для «охотных
смотрельщиков», общедоступный театр, «комедиальную хоромину», или «комедиальный
анбар», где два раза в неделю давались представления. Переводчики Посольского
приказа переводили на русский язык пьесы Кунштова репертуара, в числе которых на
московской сцене шли: Сципий Африканский, комедия о Дон-Педре и
Дон-Яне (Дон-Жуан), о Баязете и Тамерлане и даже Доктор принужденный
Мольера. В пьесы вводился и музыкальный элемент из «поючих действ», т. е. из
опер в форме арий, и элемент комический в лице неизбежного Гансвурста,
балаганного шута, героя немецкой народной сцены, имя которого московские
приказные переводчики передали словами Заячье сало. Верный правилу не
просто пользоваться иноземными мастерами, но и водворять в России их мастерства,
Петр обязал Куншта обучать русских «комедиантским наукам с добрым радением и со
всяким откровением», для чего наряженные в это мастерство подьячие из разных
приказов должны были ходить в Немецкую слободу, где жил Куншт.
ШКОЛЫ.
Одним из самых сильных впечатлений,
вынесенных Петром из первой заграничной поездки, если не сильнейшим, кажется,
было чувство удивления: как там много учатся и как споро работают, и работают
споро именно потому, что много учатся! Под этим впечатлением у него,
по-видимому, складывался план завести в России нечто похожее на университет или
политехникум. Вскоре по возвращении в беседе с патриархом он выразил
недовольство Московской академией, где мало кто учится и нет надлежащего
надзора. Он хотел иметь школу, из которой бы «во всякие потребы люди
происходили, в церковную службу и в гражданскую, воинствовати, знати строение и
докторское врачевское искусство» и которая избавила бы отцов, желающих обучить
своих детей «свободным наукам», от необходимости обращаться для этого к
иноземцам. Не по недостатку средств и подготовки широко задуманный план высшего
учебного заведения разбился на мелкие элементарные или технические училища. На
такие школы Петр и обратил свои народнообразовательные заботы в первые годы
XVIII в., еще не успев уяснить себе всех размеров предстоявшей ему
преобразовательной работы и только ограничиваясь текущими неотложными делами,
военными и финансовыми. Вместе с разрешением свободного выезда «в европейские
государства для науки», с открытием публичного театра и изданием первой газеты
князь Куракин в своей летописной автобиографии отмечает заведение математических
школ и «других наук и артей (ремесл), как шляпы делать, сукна, кожи на лосинную
стать, штукатурные фигуры из гипса, архитектурою палаты строить». Но,
разумеется, впереди всех народнообразовательных потребностей шли нужды армии и
флота. В 1698 г. Петр подговорил в Англии на русскую службу профессора
Эбердинского университета Фарварсона, который стал преподавателем в открытой в
1701 г. на Сухаревой башне в Москве навигацкой школе для детей дворян и других
чинов людей. Он был основателем математического и навигацкого обучения в России,
и о нем позднее писали, что им приготовлены при Петре едва ли не все русские
моряки, от высших и до низших. С двумя другими англичанами он вел учение
«чиновно», как следует; лишь временами, как доносил заведовавший школой
Курбатов, англичане загуляются или долго проспят и вообще не торопятся в своей
работе, «остропонятных» учеников, в ученьи забегавших вперед, бранят, дожидались
бы отстававших товарищей. Фарварсона перевели потом в морскую академию, открытую
в Петербурге в 1715 г. для детей знатного дворянства «вместо посылки за
границу». В 1711 г. становится известной инженерная школа в Москве с
«надзирателем» подполковником фан Строусом и преподавателем инженером
полковником Лямкиным, а в Петербурге возникает артиллерийская школа. Если при
этом вспомнить Московскую славяно-греко-латинскую академию с ее богословской
программой, рассчитанной на образовательные нужды духовенства, то получим два
высших учебных заведения с предполагаемым сословным составом и три специальные
по званиям школы, итого получим пять фальшивых представлений. К этим школам не
идут ни их официальные звания, ни наши социальные и учебные классификации. Все
они были школы разносословные и довольно элементарные, только венчавшие свои
программы какими-нибудь специальностями. В Московской навигацкой школе рядом с
князьями сидели дети дворовых людей. Учеников набирали отовсюду, как охотников в
тогдашние полки, лишь бы укомплектовать заведение. В Московскую инженерную школу
навербовали 23 ученика. Петр потребовал довести комплект до 100 и даже до 150
человек, только с условием, чтобы две трети были из дворянских детей. Учебное
начальство не смогло исполнить предписания; новый сердитый указ - набрать
недостающих 77 учеников из всяких чинов людей, а из царедворцовых детей, из
столичного дворянства, за кем не меньше 50 крестьянских дворов, - принудительно.
Еще явственнее выступает такой характер тогдашней школы в составе и программе
морской академии. В этом по плану преимущественно дворянском и
специально-техническом заведении из 252 учеников было только 172 из шляхетства,
остальные - разночинцы. В высших классах преподавались большая астрономия,
плоская и круглая навигация, а в низших обучались азбукам 25
разночинцев, часословам - 2 из шляхетства и 25 разночинцев,
псалтырям - 1 из шляхетства и 10 разночинцев, письму - 8
разночинцев. Школьное обучение обставлено было многочисленными затруднениями.
Учить и учиться и тогда уже было тяжело, хотя школа еще не была стеснена
уставами и надзором, а занятый войной царь всей душой радел о школе. Недоставало
необходимых учебных пособий или они были очень дороги. Казенная типография -
Печатный двор в Москве, издававший учебники, в 1711 г. купил у собственного
справщика, корректора, иеродиакона Германа понадобившийся «для школьных дел»
итальянский лексикон за 17 1/2 рублей на наши деньги. Инженерная школа в 1714 г.
потребовала у Печатного двора 30 геометрий и 83 книги синусов. Печатный
двор отпустил геометрии по 8 рублей экземпляр на наши деньги, а о синусах
отписал, что их у него совсем нет. Нелегко представить себе язык, на каком
преподавали выписанные иноземные учителя русским ученикам, едва начинавшим
знакомиться с иноземными языками. Ко всему этому надобно прибавить еще
педагогические приемы. Директор морской академии, француз барон С.-Илер, человек
не сведущий в науках, по отзыву главного начальника академии графа Матвеева,
своим обращением с академистами довел одного из них до подачи жалобы самому царю
на то, что директор бил его по щекам и палкой при всей школе. В учебном
ведомстве создавалась атмосфера, чуждая и даже враждебная науке. Я решаюсь
нарушить педагогическое правило не повергать своих слушателей в уныние, знакомя
вас с некоторыми чертами инструкции морской академии, утвержденной Петром в 1715
г. Морская гвардия, как называются воспитанники академии, ежедневно ранним утром
собирается в зале для молитвы, прося господа бога о потребной милости и о
здравии его царского величества и о благополучии его оружия, под наказанием.
Затем каждый должен сесть на свое место «без всякой конфузии, не досадя друг
другу, под наказанием». Ученики должны слушать, чему их будут учить
профессора, и к оным надлежащее почтение иметь, под наказанием.
Профессора должны обучать морскую гвардию со всяким прилежанием и лучшим
вразумительным образом, под наказанием. Профессора не должны ничего брать
со своих учеников «прямым ниже посторонним образом», под опасением возврата
взятого вчетверо, а в случае повторения «оного прегрешения - по телесным
наказанием». Школа, превращавшая воспитание юношества в дрессировку зверей,
могла только отталкивать от себя и помогла выработать среди своих питомцев
своеобразную форму противодействия - побег, примитивный, еще не
усовершенствованный способ борьбы школяров со своей школой. Школьные побеги
вместе с рекрутскими стали хроническими недугами русского народного просвещения
и русской государственной обороны. Это школьное дезертирство, тогдашняя форма
учебной забастовки, станет для нас вполне понятным явлением, не переставая быть
печальным, если к трудно вообразимому языку, на каком преподавали выписные
иноземные учителя, к неуклюжим и притом трудно добываемым учебникам, к приемам
тогдашней педагогии, вовсе не желавшей нравиться учащимся, прибавим взгляд
правительства на школьное ученье не как на нравственную потребность общества, а
как на натуральную повинность молодежи, подготовлявшую ее к обязательной службе.
Когда школа рассматривалась, как преддверие казармы или канцелярии, то и
молодежь приучалась смотреть на школу, как на тюрьму или каторгу, с которой
бежать всегда приятно. В 1722 г. Сенат публиковал во всенародное сведение
высочайший указ с торжественностью, подобающей разве только манифестам о созыве
Государственной думы. Этот указ его величества императора и самодержца
всероссийского объявлял всенародно, что из Московской навигацкой школы,
зависевшей от Петербургской морской академии, бежало 127 школьников, от чего
произошла утрата денежной суммы академической, потому что оные школьники -
стипендиаты, «жив многие лета и забрав жалованье, бежали». Указ деликатно
приглашал беглецов явиться в школу в указные сроки под угрозой штрафа для
шляхетских детей и более чувствительного «наказания» для нижних чинов. К указу
приложен был и список беглецов, как персон, заслуживающих внимания всей империи,
которая оповещалась, что из шляхетства бежали 33 ученика, и между ними князь А.
Вяземский; остальные были дети рейтаров, гвардейских солдат, разночинцев да 12
человек из боярских холопов - так разносословен был состав тогдашней школы.
ГИМНАЗИЯ ГЛЮКА.
Так туманно занималась заря русского
школьного просвещения. Своеобразным эпизодом в ходе этого просвещения является
школа Глюка. Саксонец родом, энтузиастический педагог и миссионер, получивший
хорошее филологическое и богословское образование в немецких университетах, он
пастором отправился в Лифляндию, в городок Мариенбург, выучился по-латышски и
по-русски, чтобы перевести Библию прямо с еврейского и греческого текста для
местных латышей, а для русских, живших в Восточной Лифляндии, с малопонятного им
славянского на простой русский язык, хлопотал о заведении латышских и русских
школ и для последних переводил на русский язык учебники. В 1702 г. при взятии
Мариенбурга русскими войсками он попал в плен и был препровожден в Москву.
Тогдашнее московское ведомство иностранных дел нуждалось в толмачах и
переводчиках и добывало их всякими путями, приглашало на свою службу иноземцев
или поручало им обучать русских иноземным языкам. Так, в 1701 г. директор школы
в Немецкой слободе Швиммер был приглашен Посольским приказом на должность
переводчика, и ему поручено было обучить языкам немецкому, французскому и
латинскому 6 подьяческих сыновей, предназначенных служить переводчиками в этом
приказе. И пастору Глюку, помещенному в слободе, отдано было для обучения языкам
несколько учеников Швиммера. Но когда обнаружилось, что пастор может обучать не
только языкам, но и «многим школьным и математическим и философским наукам на
разных языках», ему в 1705 г. устроили в самой Москве целое среднее учебное
заведение на Покровке, «гимназию», как она называется в актах. Петр оценил
ученого пастора, в доме которого, замечу мимоходом, жила schones Madchen von
Marienburq, как звали местные обыватели ливонскую крестьянку, впоследствии
императрицу Екатерину 1. На содержание школы Глюка назначено было 3 тысячи
рублей, около 25 тысяч на наши деньги. Глюк начал дело пышным и заманчивым
воззванием к русскому юношеству, «аки мягкой и всякому изображению угодной
глине»; воззвание начинается словами: «Здравствуйте, плодовитые, да токмо подпор
и тычин требующие дидивины!» Тут же была напечатана и программа школы с перечнем
преподавателей, все выписных из-за границы: учредитель вызывался обучать
географии, ифике, политике, латинской риторике с ораторскими упражнениями,
философии картезианской, языкам - французскому, немецкому, латинскому,
греческому, еврейскому, сирскому и халдейскому, танцевальному искусству и
поступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной езде и берейторскому
обучению лошадей. По сохранившимся и недавно изданным документам, идущим с
начала 1705 г.; когда школа была утверждена указом, можно составить довольно
обстоятельную историю этого любопытного, хотя и недолговечного
общеобразовательного заведения. Ограничусь лишь немногими чертами. По указу
школа предназначалась для бесплатного обучения разным языкам и «философской
мудрости» детей бояр, окольничьих, думных и ближних и всякого служилого и
купецкого чина людей. Глюк приготовил для своей школы на русском языке
краткую географию, русскую грамматику, лютеранский катехизис, молитвенник,
изложенный плохими русскими стихами, и ввел в преподавание руководства к
параллельному изучению языков чешского педагога XVII в. Коменского, из которых
Orbis pictus, Мир в лицах, обошел чуть ли не все начальные школы Европы.
По смерти Глюка в 1705 г. «ректором» школы стал один из ее учителей, Паус
Вернер; но за его «многое неистовство и развращение», за продажу школьных
учебников в свою пользу ему от школы было отказано. Глюку предоставлено было
приглашать учителей из иноземцев, сколько ему понадобится. В 1706 г. их было 10;
они жили в школе на казенных меблированных квартирах, образуя застольное
товарищество; кормила их за особое вознаграждение вдова Глюка; сверх того они
получали денежное жалованье со столовыми от 48 до 150 рублей в год (384 - 1200
рублей на наши деньги); при этом все просили прибавки. Кроме того, при школе
полагались слуги и лошади. Из пышной программы Глюка преподавались на деле
только языки - латинский, немецкий, французский, итальянский и шведский, учитель
которого преподавал и «гисторию», сын Глюка готов был излагать и философию всем
охотникам «феологских сладостей», если таковые найдутся, а учитель Рамбур,
танцевальный мастер, вызывался преподавать «телесное благолепие и комплементы
чином немецким и французским». Курс состоял из трех классов: начального,
среднего и верхнего. Ученикам обещано было важное преимущество: окончившим курс
«в службу неволею взятья не будет», будут они приниматься на службу, когда
пожелают, по состоянию и искусству. Школа объявлена была вольной: в нее
записываются «своею охотою». Но принцип академической свободы скоро разбился о
научное равнодушие: в 1706 г. в школе было только 40 учеников, а учителя
находили, что можно прибавить еще 300. Тогда недоросли, дети «знатных чинов», в
науке не состоящие, были оповещены указом, чтоб «они привожены были в тое школу
безо всякого отбывательства и учились на своих довольствах и кормах». Но эта
мера, кажется, не пополнила школы до желаемого комплекта. В первое время среди
ее учеников являются князь Барятинский, Бутурлин и других знатных людей дети на
своем содержании; но потом в школу вступают все люди с темными именами и большею
частью в «кормовые ученики», на казенные стипендии в 90 - 300 рублей на наши
деньги. Вероятно, это были в большинстве сыновья приказных людей, учившиеся по
распоряжению начальства их отцов. Состав учащихся был очень пестр: в нем
встречаются дети беспоместных и безвотчинных дворян, майоров и капитанов,
солдат, посадских людей, вообще люд недостаточный; один ученик, например, жил на
Сретенке у дьякона, нанимал угол со своею матерью, а отец его был солдат;
учеников «безжалованных», своекоштных было меньшинство. В 1706 г. установлен был
штат в 100 учеников, которым «давать жалованье определенное», увеличивая его с
переходом в высший класс, «дабы охотнее учились, и в том стараться как возможно,
чтобы поспешно учились». Для учеников, живших далеко от училища, учителя просили
устроить общежитие, построив на школьном дворе 8 или 10 малых изб. Ученики
считались своего рода корпорацией: их коллективные челобитья начальство
принимало во внимание. В канцелярских бумагах немного указаний на ход
преподавания в школе; но по указу о ее учреждении записавшиеся в нее могли
учиться, «каких наук кто похочет». Очевидно, и тому времени не чужда была идея
предметной системы. Школа не упрочилась, не стала постоянным заведением: ученики
ее постепенно расползались, переходили кто в славяно-греко-латинскую академию,
кто в медицинскую школу при московском военном госпитале, устроенном в 1707 г.
на реке Яузе под руководством доктора Бидлоо, племянника известного лейденского
профессора; иные были командированы для дальнейшей науки за границу или
пристроились в московской типографии; многие из помещичьих детей самовольно
разъехались по деревням, т. е. бежали, соскучившись по матерям и сестрам. В 1715
г. последние учителя, оставшиеся в школе, были переведены в Петербург, кажется,
в открывавшуюся тогда морскую академию. После о школе Глюка вспоминали как о
смешной затее мариенбургского пастора, бесполезность которой заметил, наконец, и
Петр. Гимназия Глюка была у нас первой попыткой завести светскую
общеобразовательную школу в нашем смысле слова. Мысль оказалась преждевременной:
требовались не образованные люди, а переводчики Посольского приказа, и училище
Глюка разменялось на школу иностранных корреспондентов, оставив по себе смутную
память об «академии разных языков и кавалерских наук на лошадях, на шпагах» и т.
п., как охарактеризовал школу Глюка князь Б. Куракин. После этой школы учебным
заведением с общеобразовательным характером оставалась в Москве только
греко-латинская академия, рассчитанная на церковные нужды, хотя еще не
утратившая всесословного состава. Брауншвейгский резидент Вебер, в 1716 г. уже
не заставший школы Глюка, очень одобрительно отзывается об этой академии, где
училось до 400 студентов у ученых монахов, «острых и разумных людей». Студент
высшего класса, какой-то князь, сказал Веберу довольно искусную, заранее
выученную латинскую речь, состоявшую из комплиментов. Любопытно его же известие
о математической школе в Москве, что преподаватели в ней - русские, за
исключением главного из них, англичанина, превосходно обучившего многих молодых
людей. Это, очевидно, знакомый уже нам эдинбургский профессор Фарварсон. Значит,
заграничные учебные посылки не были совсем безуспешны, дали возможность снабдить
школу русскими преподавателями. Но успехи добывались нелегко и небезгрешно.
Заграничные ученики своим поведением приводили в отчаяние приставленных к ним
надзирателей; учившиеся в Англии нашалили так, что боялись воротиться в
отечество. В 1723 г. последовал одобрительный указ, приглашавший шалунов
безбоязненно воротиться домой, во всем их прощавший и милостиво обнадеживавший в
безнаказанности, обещавший даже награды «жалованьем и домами».
НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ.
Во всесословном составе столичных
школ уже мелькает мысль о всенародном образовании. Эта мысль бродила в тогдашних
умах, захваченных реформой; только трудно сказать, была ли она плодом
преобразовательной горячки или практически обдуманным, осуществимым планом.
Посошков признавал возможным ввести обязательное обучение всех крестьянских
детей даже в определенный срок, в 3 - 4 года: дьячки должны были обучать их
грамоте, читать и писать. Мысль о начальной народной школе занимала и самого
Петра. Московская математическая школа имела стать рассадником начального
образования в России. В 1714 г., когда вышел указ об обязательном обучении
дворянства, велено было из этой школы послать учеников во все губернии «для
науки молодых ребяток изо всяких чинов людей» в арифметических, или, как они еще
назывались, цифирных, школах, которые повелено было завести при архиерейских
домах и в знатных монастырях; учителям давать жалованья по гривне на день, 300
рублей в год на наши деньги. Дело ладилось плохо: детей в новые школы не
высылали; их набирали насильно, держали в тюрьмах и за караулом; в 6 лет мало
где устроились эти школы; посадские люди отпросили у Сената своих детей от
цифирной науки, чтобы не отвлекать их от отцовских дел; из 47 посланных в
губернии учителей восемнадцать не нашли учеников и воротились назад; в рязанскую
школу, открытую только в 1722 г., набрали 96 учеников, но из них 59 бежало.
Вятский воевода Чаадаев, желавший открыть в своей провинции цифирную школу,
встретил противодействие со стороны епархиальных властей и духовенства. Чтобы
набрать учеников, он разослал по уезду солдат воеводской канцелярии, которые
хватали всех годных для школы и доставляли в Вятку. Дело, однако, не удалось. В
цифирных школах обучали грамоте, письму, арифметике и части геометрии: этим
ограничивалась тогдашняя программа начальной школы. К концу царствования Петра
таких училищ считалось до полусотни: они заведены были во многих провинциальных
городах, но не во всех губернских. Петру не удалось сделать их всенародными: в
них обучались преимущественно, если не исключительно, «дьячьи и подьяческие
дети», значит, юношество, предназначенное для приказной службы. Вообще народное
образование вводилось урывками, случайными усилиями отдельных ревнителей,
подобных вятскому воеводе. Известный прибыльщик Курбатов, попав
вице-губернатором в Архангельск, набрал человек с сорок солдатских детей-сирот и
завел школу, многих из них обучил грамоте и хотел даже учить цифири и навигации.
Та же случайность господствовала и в домашнем обучении: не раз упомянутый мною
князь Куракин в 1705 г. посадил своих детей учиться грамоте немецкого языка,
подыскав «мастера» за 100 рублей. Обучение одному немецкому языку стоило около
800 рублей на наши деньги. В этом деле пригодились и пленные шведские офицеры:
их брали большие господа для обучения своих детей, и они преподавали даже с
большим успехом, чем учителя правительственных школ. Образовательными средствами
побирались, как милостыней, и брали все, что бог посылал.
КНИГИ. АССАМБЛЕИ. УЧЕБНИК ПРИЛИЧИЙ.
Новый покрой платья, парики, бритые
бороды, как и коллегиальные учреждения, средние и начальные школы, входили
составными частями в один общий и широкий план - образить, облицевать русских
людей внутри и снаружи по подобию просвещенных народов, дать их наружности,
управлению, мышлению и самому общежитию склад, не отчуждающий, а сближающий с
европейским миром, с которым историческая судьба связала русский народ. С этой
стороны подробности, кажущиеся маловажными, получают свое значение. Заставляя
дворянство обучаться техническим наукам, Петр хотел сделать его и проводником
европейских светских обычаев и приличий в русское общество. С 1708 г. по его
указу книги недуховного содержания стали печатать новым, «гражданским» шрифтом,
сближенным по начертанию букв с латинским, как старый славянорусский церковный
шрифт имел сходство с греческим. Первой напечатанной новым шрифтом книгой,
понятно, вышла Геометриа, славенски землемерие, она печаталась с
рукописи, испещренной собственноручными поправками Петра, находившего досуг для
цензурных и корректурных занятий. Но стоит заметить, что второй книгой были
Приклады, како пишутся комплементы разные, перевод немецкого письмовника
с образцами писем на разные случаи и к разным лицам. На одной печатной азбуке, в
которой буквы нового начертания также поправлены самим Петром, он пометил: «Сими
литерами печатать исторические и мануфактурные книги». Так и типографский шрифт,
подобно покрою платья, становился показателем известного порядка идей и знаний,
символом миросозерцания. При Петре напечатано было немало переводных книг
разнообразного содержания, в том числе по истории и технологии, а года через три
по смерти его на книжном рынке в Москве запасались и польскими книгами.
Типография давала образцы вежливой и приличной корреспонденции; полиция издавала
обязательные постановления о пристойном общежитии. Петербургский
обер-полицеймейстер Девиер в 1718 г. публиковал распоряжение об
ассамблеях, вольных собраниях, открывавшихся по вечерам в знатных домах
по установленному порядку для дворян, людей высших чинов до обер-офицеров,
знатных купцов и главных мастеров. Ассамблея - и биржа, и клуб, и приятельский
журфикс, и танцевальный вечер. Здесь толковали о делах, о новостях, играли,
пили, плясали. Никаких церемоний: ни встреч, ни проводов, ни потчеваний; всякий
приходил, пил, ел, что поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению. За
нарушение правил штраф - осушить орла, большой кубок крепкого вина с
изображением государственного герба, чтобы стать предметом общего веселого
смеха. В 1717 г. издана была по распоряжению или с разрешения Петра переводная
книжка Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению.
Идея книги самая заманчивая - преподать правила, как держать себя в
обществе, чтобы иметь успех при дворе и в свете. Первое общее правило - не быть
подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется; не славная фамилия и
не высокий род приводят к шляхетству, но благочестные поступки и добродетели,
украшающие шляхтича, коих три: приветливость, смирение и учтивость.
Усовершенствованный младый шляхтич, желающий прямым придворным стать, должен
быть обучен наипаче языкам, конной езде, танцеванию, шпажной битве,
красноглаголив и в книгах начитан, уметь добрый разговор вести, намерения своего
никому не объявлять, дабы не упредил его другой, должен быть отважен, неробок:
кто при дворе стыдлив бывает, тот с порожними руками от двора отходит. Таковы
качества, приводящие к дворянской цели жизни - стать лощеным светским фатом и
придворным пройдохой. Книжонка пришлась по вкусу: при Петре она выдержала три
издания, издавалась не раз и после. Она давала наставления, которые для молодого
русского шляхтича были полезными, хотя и трудно усвояемыми откровениями: повеся
голову и потупя глаза на улице не ходить и на людей косо не заглядывать, глядеть
весело и приятно с благообразным постоянством, при встрече со знакомым за три
шага шляпу снять приятным образом, а не мимо прошедши оглядываться, в сапогах не
танцевать, в обществе в круг не плевать, а на сторону, в комнате или в церкви в
платок громко не сморкаться и не чихать, перстом носа не чистить, губ рукой не
утирать, за столом на стол не опираться, руками по столу не колобродить, ногами
не мотать, перстов не облизывать, костей не грызть, ножом зубов не чистить,
головы не чесать, над пищей, как свинья, не чавкать, не проглотя куска не
говорить, ибо так делают крестьяне. В заключение перечислены 20 добродетелей,
долженствующих украшать благородных девиц. Особенно любезны были «младым
отрокам» советы не говорить между собою по-русски, чтобы не поняла прислуга и их
можно было отличить от незнающих болванов, со слугами не сообщаться, обращаться
с ними недоверчиво и презрительно, всячески их смирять и унижать.
Немецко-дворянское Зерцало било в самый коренной нерв настроения русского
шляхетства. Петр не смотрел на сословные предрассудки и притязания, работал на
пользу всего народа. После него ход дел поставил высшему русскому обществу
задачу, как бы все плоды работы преобразователя повернуть в пользу одного
господствующего сословия, возможно резче обособив его от других классов,
незнающих болванов, наипаче от крестьян и холопов. Ничтожная немецкая книжонка
недаром стала воспитательницей общественного чувства русского дворянина.
ПРАВЯЩИЙ КЛАСС.
Пройденная при Петре школа не научила
людей правящего класса смотреть ясным взглядом на то дело, в котором они
принимали такое деятельное участие, и в понимании его сущности они стояли
немного выше остального общества. Этот класс чувствовал создавшиеся затруднения,
когда об них ударялся, но не находил в голове руководящих идей для их
устранения. Ему и неоткуда было запастись такими идеями: то были все
дельцы-самоучки, подобно своему вождю, только не обремененные талантами. Они
учились делу среди самого дела, на ходу, без подготовки, не привыкнув
вдумываться в общий план дела и в его цели. Теперь они почувствовали себя
вдвойне свободными. Реформа вместе со старым платьем сняла с них и сросшиеся с
этим платьем старые обычаи, вывела их из чопорно-строгого древнерусского чина
жизни. Такая эмансипация была для них большим нравственным несчастьем, потому
что этот чин все же несколько сдерживал их дурные наклонности; теперь они
проявили беспримерную разнузданность. Потерей привычной почвы под ногами только
и можно объяснить такое невероятное дело: дворовый человек Шереметева Курбатов,
столько раз мною упомянутый, путешествуя с барином по Италии, в 1698 г.
обратился к папе с прошением, в котором, заявляя себя верным сыном католической
церкви, просил снабдить его по приложенному списку книгами
религиозно-догматического содержания и, обнадеживая папу в успехе католической
пропаганды в России, советовал отправить туда знающих людей, обещая открыть им
доступ в дома московской знати. А с другой стороны, сотрудники реформы поневоле,
эти люди не были в душе ее искренними приверженцами, не столько поддерживали ее,
сколько сами за нее держались, потому что она давала им выгодное положение. Петр
служил своему русскому отечеству, но служить Петру еще не значило служить
России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их гражданскому
росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые
слуги. Он порой колотил их, порой готов был видеть в них своих сотрудников,
чтобы тем ослабить в себе чувство скуки своим самодержавным одиночеством. Князь
Меншиков, герцог Ижорской земли, отважный мастер брать, красть и подчас лгать,
не умевший очистить себя даже от репутации фальшивого монетчика; граф Толстой,
тонкий ум, самим Петром признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое
дело выворотить лицом наизнанку и изнанкой на лицо; граф Апраксин, сват Петра,
самый сухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах и незнакомый с
первыми началами мореходства, но радушнейший хлебосол, из дома которого трудно
было уйти трезвым, цепной слуга преобразователя, однако затаенный противник его
преобразований и смертельный ненавистник иноземцев; барон, а потом граф
Остерман, вестфальский попович, камердинер голландского вице-адмирала в ранней
молодости и русский генерал-адмирал под старость, в убогое правление Анны
Леопольдовны всемогущий человек, которого полушутя звали «царем всероссийским»,
великий дипломат с лакейскими ухватками, который никогда в подвернувшемся случае
не находил сразу, что сказать, и потому прослыл непроницаемо-скрытным, а
вынужденный высказаться, либо мгновенно заболевал послушной тошнотой или
подагрой, либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя,
- робкая и предательски каверзная душа; наконец, неистовый Ягужинский, всегда
буйный и зачастую навеселе, лезший с дерзостями и кулаками на первого
встречного, годившийся в первые трагики странствующей драматической труппы и
угодивший в первые генерал-прокуроры Сената: вот наиболее влиятельные люди, в
руках которых очутились судьбы России в минуту смерти Петра. Они и начали
дурачиться над Россией тотчас по смерти преобразователя. Через три недели после
похорон, 31 марта 1725 г., Ягужинский вечером во время всенощной влетел в
Петропавловский собор и, указывая на стоявший средь церкви гроб Петра, принялся
громко жаловаться на своего обидчика князя Меншикова, а на другой день рано
утром Петербург был разбужен страшным набатом: это неутешная вдова-императрица
подшутила над столицей - ради 1 апреля. Суровая воля преобразователя объединяла
этих людей призраком какого-то общего дела. Но когда в лице Екатерины I на
престоле явился фетиш власти, они почувствовали себя самими собой и трезвенно
взглянули на свои взаимные отношения, как и на свое положение в управляемой
стране, они возненавидели друг друга, как старые друзья, и принялись торговать
Россией, как своей добычей. Никакого важного дела нельзя было сделать, не дав им
взятки; всем им установилась точная расценка с условием, чтобы никто из них не
знал, сколько перепадало другому. Это были истые дети воспитавшего их
фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности
и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства. Выдающиеся дельцы
той эпохи вроде Артемия Волынского, младшего современника и птенца Петра
Великого, не находили ничего зазорного в тайном доносе, а доказывать свой донос
открыто, следственным порядком, очными ставками и «прочими пакостями», по
выражению Волынского, бесчестно и для последнего дворянина, а публично
оправдавший себя доносчик «и с правдою своею самому себе мерзок будет». Дело
Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни разрушить; они могли
его только Портить. При Петре, привыкнув ходить по его жестокой указке, они
казались крупными величинами, а теперь, оставшись одни, оказались простыми
нулями, потерявшими свою передовую единицу. Бывало, сойдутся для суждения о
важном деле, а Остерман, без которого русский двор не умел ступить шагу,
заломается, чтобы набить себе цену, не придет, отговорившись какой-либо из своих
политических болезней. Вершители отечественных судеб посидят немного и, выпив по
стаканчику, разойдутся, а затем увиваются около барона, чтобы разогнать дурное
расположение духа петербургского Мефистофеля из Вестфалии. Но в лице Остермана
они не чтили ни ума, ни знания, ни трудолюбия, презирали его, как чужака,
боялись, как интригана, и ненавидели, как соперника. Нареченный тесть Петра II
князь Меншиков и воспитатель императора барон Остерман, дружно действовавшие в
придворной интриге, раз сцепились в дружеской беседе. Князь обозвал барона
атеистом, опустошающим верующую совесть юного монарха, и пригрозил барону
Сибирью, а барон, разгорячившись, возразил князю, что сослать его, барона, ему,
князю, не под силу, а вот он, барон, в состоянии довести его, князя, до казни
четвертованием, чего он, князь, вполне и заслуживает. Но, не задумываясь над
смыслом реформы, эти люди чутко угадывали ее промахи, выгодные для них и для
классов общества, с которыми были сами связаны. Здесь же, в этих классах, умели
пользоваться законодательным недосмотром Петра, снявшего последние ограничения с
крепостного права, но не желали нести положенные за то тягости и особенно
негодовали на эту заграничную науку с ее понятиями и обычаями. Неплюев
рассказывает, что, когда он с товарищами воротился из заграничной выучки, они
были не только от равных им возненавидены, но и от свойственников своих за
европейский обычай, в них примеченный, «насмешкой и ругательством осмеяны».
Недостроенная храмина, как называл Меншиков Россию после Петра, достраивалась
уже не по петровскому плану, и Феофан Прокопович взял на душу немалый грех,
сказав в своей знаменитой проповеди при погребении Петра в утешение осиротевшим
россиянам, будто преобразователь «дух свой оставил нам».
| Предыдущая глава | Оглавление | Следующая глава |
|---|