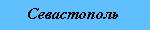
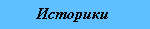

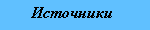
ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ.
Почти еще во цвете лет и с нетронутым запасом
сил Никон стал патриархом русской церкви. Он попал в бурливый и мутный водоворот
разносторонних стремлений, политических замыслов, церковных недоразумений и
придворных интриг. Государство готовилось воевать с Польшей, свести с ней
затянувшиеся со Смутного времени счеты и сдержать прикрытый ее флагом
католический натиск на западную Русь. Для успеха в этой борьбе Москве нужны были
протестанты, их военное искусство и промышленные указания. Для русской церковной
иерархии возникала двусторонняя забота: надобно было поощрять царское
правительство к борьбе с католиками и сдерживать его от увлечения протестантами.
Под гнетом этой заботы в застоявшейся церковной жизни появляются признаки
некоторого движения. Готовясь к борьбе, русское церковное общество
насторожилось, спешило прибраться, почиститься, собраться с силами, внимательнее
присмотреться к своим недостаткам: издаются строгие указы против суеверий,
языческих обычаев в народе, безобразного провождения праздников, против кулачных
боев, зазорных игрищ, пьянства и невежества духовенства, против беспорядков в
богослужении. Спешили возможно скорее вымести сор, небрежно копившийся вместе с
церковными богатствами 6 1/2 столетия. Стали искать союзников. Если государству
понадобился мастер-немец, то церковь почувствовала нужду в учителе-греке или
киевлянине. Отношения к грекам улучшаются: вопреки прежнему недоверчивому и
пренебрежительному взгляду на их пестрое благочестие теперь в Москве признают их
строго православными. Сношения с восточной иерархией оживляются: все чаще
появляются в Москве восточные иерархи с просьбами и предложениями; все чаще
обращаются из Москвы на Восток к греческим владыкам с запросами по церковным
нуждам и недоумениям. Русская автокефальная церковь с подобающим
благоговеинством относится к церкви константинопольской, как к своей бывшей
митрополии; мнениям восточных патриархов в Москве внемлют, как голосу вселенской
церкви; никакого важного церковного недоумения не решают без их согласия. Греки
шли навстречу шедшим из Москвы призывам. В то время как Москва искала света на
греческом Востоке, оттуда шли внушения самой Москве стать источником света для
православного Востока, питомником и рассадником духовного просвещения для всего
православного мира, основать высшее духовное училище и завести греческую
типографию. В то же время доверчиво пользовались трудами и услугами киевской
учености. Но все эти духовные силы легче было собрать, чем объединить, наладить
для дружной работы. Киевские академики и ученые греки являлись в Москву
спесивыми гостями, коловшими глаза хозяевам своим научным превосходством.
Придворные сторонники западной культуры, как Морозов и Ртищев, дорожа немцами,
как мастерами, привечали греков и киевлян, как церковных учителей, и помогали
Никонову предшественнику, патриарху Иосифу, который тоже держался обновительного
направления вместе с царским духовником Стефаном Вонифатьевым, хлопотал о школе,
о переводе и издании образовательных книг, а для проведения в народную массу
благопристойных понятий и нравов Стефан вызвал из разных углов России популярных
проповедников, священников Ивана Неронова из Нижнего, Даниила из Костромы,
Логгина из Мурома, Аввакума из Юрьевца Повольского, Лазаря из
Романова-Борисоглебска. В этой компании вращался и Никон, пока молчаливо себе на
уме присматриваясь к товарищам, своим первым будущим врагам. Но Ртищева за
научные наклонности заподозрили в ереси, а царский духовник, с виду благодушный
и смиренный назидатель царя, при первом столкновении обругал перед ним патриарха
и весь Освященный собор волками и губителями, сказав, что в Московском
государстве и церкви-то божией совсем нет, так что патриарх бил челом царю по
силе Уложения, присуждающего смертную казнь за хулу на соборную и апостольскую
церковь. Наконец и подобранные духовником сотрудники перестали слушаться своего
вожака, говорили с ним "жестоко и противно", попросту ругались и с фанатическим
самозабвением во имя того же русского бога набросились на патриарха и всех
нововводителей с их новыми книгами, идеями, порядками и учителями, не разбирая
ни немцев, ни греков, ни киевлян. Духовник царский был прав, сказав, что в
Московском государстве нет церкви божией, если под церковью разуметь
церковно-иерархическую дисциплину и богослужебный порядок. Здесь царили
безнарядье и бесчиние. Набожная, выдержанная в церковности русская паства
скучала долгим стоянием в храме. Угождая ей, духовенство самовольно ввело
ускоренный порядок богослужения: читали и пели разное в два, в три голоса или
одновременно дьячок читал, дьякон говорил ектению, а священник возгласы, так что
ничего нельзя было разобрать, лишь бы было прочитано и спето все положенное по
служебнику. Еще Стоглавый собор строго воспретил такое многогласие; но
духовенство не слушалось соборного постановления. За такое бесчиние достаточно
было подвергать бесчинных священнослужителей дисциплинарному взысканию. Но
патриарх по приказу царя в 1649 г. созвал по этому делу целый церковный собор,
который, опасаясь ропота духовенства и мирян, утвердил беспорядок. В 1651 г.
недовольство сторонников церковного благочиния понудило на новом соборе
перерешить дело в пользу единогласия. Высшие пастыри церкви боялись своей паствы
и даже подвластного духовенства, а паства ни во что не ставила своих пастырей,
которые под гнетом изменчивых влияний метались из стороны в сторону, не отставая
в законодательной растерянности от государственного правительства.
ИДЕЯ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ.
Можно было бы подивиться духовной
силе Никона, сумевшего среди этой взбаламученной разносторонними веяниями
церковной мути выработать и донести до патриаршего престола ясную мысль о церкви
вселенской и об отношении к ней поместной церкви русской, если бы он внес в эту
мысль более серьезного содержания. Он вступил в управление русской церковью с
твердой решимостью восстановить полное согласие ее с церковью греческой,
уничтожив все обрядовые особенности, которыми первая отличалась от последней. Не
было недостатка во внушениях, поддерживавших в нем сознание необходимости этого
единения. Восточные иерархи, все чаще наезжавшие в Москву в XVII в., укоризненно
указывали русским церковным пастырям на эти особенности, как на местные новизны,
могущие расстроить согласие между поместными православными церквами. Незадолго
до вступления Никона на патриаршую кафедру случилось событие, указывавшее на
такую опасность. На Афоне монахи всех греческих монастырей, составив собор,
признали двуперстие ерестью, сожгли московские богослужебные книги, в которых
оно было положено, и хотели сжечь самого старца, у которого нашли эти книги.
Можно угадывать личное побуждение, заставлявшее Никона больше всего заботиться
об упрочении тесного общения русской церкви с восточными, русского патриарха со
вселенскими. Он понимал, что вялые преобразовательные поползновения патриарха
Иосифа и его единомышленников не выведут русской церкви из ее безотрадного
положения. Он воочию видел, каким жалким статистом служил на придворной сцене
всероссийский патриарх, по собственному опыту знал, как легко настойчивый
человек может повернуть молодого царя в любую сторону, и его взрывчатое
самолюбие возмущалось при мысли, что и он, патриарх Никон, может стать игрушкой
в руках какого-нибудь зазнавшегося царского духовника подобно своему
предшественнику, к концу патриаршества ждавшего со дня на день отставки. На
высоте апостольского престола в Москве Никон должен был чувствовать себя
одиноким и искал опоры на стороне, на вселенском Востоке, в тесном единении с
восточными сопрестольниками, ибо авторитет вселенской церкви при всей трудности
этого представления для московского церковного разумения все же был некоторым
пугалом для набожно-трусливой, хотя и всевластной московской совести. По своей
привычке всякую идею, всякое чувство, его захватывавшее, разрабатывать при
содействии воображения, он забывал свою нижегородскую мордовскую родину и хотел
заставить себя стать греком. На церковном соборе 1655 г. он объявил, что хотя он
русский и сын русского, но его вера и убеждения - греческие. В том же году после
торжественной службы в Успенском соборе он на глазах всего молившегося народа
снял с себя русский клобук и надел греческий, что, впрочем, вызвало не улыбку, а
сильный ропот, как вызов всем веровавшим, что в русской церкви все предано
апостолами по внушению святого духа. Никон хотел даже стол иметь греческий. В
1658 г. сам архимандрит греческого монастыря на Никольской улице с келарем
"строили кушанье государю патриарху по-гречески" и за то получили по полтине,
рублей по 7 на наши деньги. Укрепившись опорой вне сферы московской власти,
Никон хотел быть не просто московским и всероссийским патриархом, а еще одним из
вселенских и действовать самостоятельно. Он хотел дать действительную силу
титулу "великого государя", какой он носил наравне с царем, все равно, была ли
это снисходительно допущенная узурпация или неосторожно пожалованная "собинному
другу" царская милость. Он ставил священство не только вровень с царством, но и
выше его. Когда его упрекали в папизме, он без смущения отвечал: "За доброе
отчего и папу не почитать? Там верховные апостолы Петр и Павел, а он у них
служит". Никон бросил вызов всему прошлому русской церкви, как и окружающей
русской действительности. Но он не хотел считаться со всем этим: перед носителем
вечной и вселенской идеи должно исчезать все временное и местное. Вся задача в
том, чтобы установить полное согласие и единение церкви русской с другими
поместными православными церквами, а там уж он, патриарх всея Руси, сумеет
занять подобающее место среди высшей иерархии вселенской церкви.
НОВШЕСТВА.
Никон приступил к делу восстановления
этого согласия со своей обычной ревностью и увлечением. Вступая на патриарший
престол, он связал боярское правительство и народ торжественною клятвой дать ему
волю устроить церковные дела, получил своего рода церковную диктатуру. Став
патриархом, он на много дней затворился в книгохранилище, чтобы рассмотреть и
изучить старые книги и спорные тексты. Здесь, между прочим, он нашел грамоту об
учреждении патриаршества в России, подписанную в 1593 г. восточными патриархами,
в которой он прочитал, что московский патриарх, как брат всех прочих
православных патриархов, во всем должен быть с ними согласен и истреблять всякую
новизну в ограде своей церкви, так как новизны всегда бывают причиной церковного
раздора. Тогда Никоном овладел великий страх при мысли, не попустила ли русская
церковь какого-нибудь отступления от православного греческого закона. Он начал
рассматривать и сличать с греческим славянский текст символа веры и
богослужебных книг и везде нашел перемены и несходства с греческим текстом. В
сознании своего долга поддерживать согласие с церковью греческой он решил
приступить к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов. Он
начал с того, что своею властью без собора в 1653 г. перед великим постом
разослал по церквам указ, сколько следует класть земных поклонов при чтении
известной молитвы св. Ефрема Сирина, причем предписывал также креститься тремя
перстами. Потом он ополчился против русских иконописцев своего времени, которые
отступали от греческих образцов в писании икон и усвояли приемы католических
живописцев. Далее, при содействии юго-западных монахов он ввел на место древнего
московского унисонного пения новое киевское партесное, а также завел небывалый
обычай произносить в церкви проповеди собственного сочинения. В древней Руси
подозрительно смотрели на такие проповеди, видели в них признак самомнения
проповедника; пристойным считали читать поучения святых отцов, хотя обыкновенно
и их не читали, чтобы не замедлять церковной службы. Никон сам любил и был
мастер произносить поучения собственного сочинения. По его внушению и примеру и
приезжие киевляне начали говорить в московских церквах свои проповеди, иногда
даже на современные темы. Легко понять смущение, в какое должны были впасть от
этих новизн православные русские умы, и без того тревожно настроенные.
Распоряжения Никона показывали русскому православному обществу, что оно доселе
не умело ни молиться, ни писать икон и что духовенство не умело совершать
богослужение как следует. Это смущение живо выразил один из первых вождей
раскола, протопоп Аввакум. Когда вышло распоряжение о великопостных поклонах,
"мы, - пишет он, - собрались и задумались: видим, зима наступает, сердце озябло
и ноги задрожали". Смущение должно было усилиться, когда Никон приступил к
исправлению богослужебных книг, хотя это дело он провел через церковный собор
1654 г. под председательством самого царя и в присутствии Боярской думы: собор
постановил при печатании церковных книг исправлять их по древним славянским и по
греческим книгам. Богослужебные книги в древней Руси плохо отличали от
священного писания. Потоку предприятие Никона возбуждало вопрос: неужели и
божественное писание неправо? что же после этого есть правого в русской церкви?
Тревога усиливалась еще тем, что все свои распоряжения патриарх вводил порывисто
и с необычайным шумом, не подготовляя к ним общества и сопровождая их жестокими
мерами против ослушников. Оборвать, обругать, проклясть, избить неугодного
человека - таковы были обычные приемы его властного пастырства. Так он поступил
даже с епископом коломенским Павлом, возражавшим ему на соборе 1654 г.: без
соборного суда Павел был лишен кафедры, предан "лютому биению" и сослан, сошел с
ума и погиб безвестной смертью. Один современник рассказывает, как Никон
действовал против нового иконописания. В 1654 г., когда царь был в походе,
патриарх приказал произвести в Москве обыск по домам и забрать иконы нового
письма везде, где они окажутся, даже в домах знатных людей. У отобранных икон
выкалывали глаза и в таком виде носили их по городу, объявляя указ, который
грозил строгим наказанием всем, кто будет писать такие иконы. Вскоре после того
в Москве настала моровая язва и случилось солнечное затмение. Москвичи пришли в
сильное волнение, собирали сходки и бранили патриарха, говоря, что мор и
затмение - кара божия за нечестие Никона, ругающегося над иконами, собирались
даже убить иконоборца. В 1655 г. в неделю православия патриарх совершал в
Успенском соборе торжественное богослужение в присутствии двух восточных
патриархов, антиохийского и сербского, случившихся тогда в Москве. После
литургии Никон, прочитав беседу о поклонении иконам, произнес сильную речь
против новой русской иконописи и предал церковному отлучению всех, кто впредь
будет писать или держать у себя новые иконы. При этом ему подносили отобранные
иконы и он, показывая каждую народу, бросал ее на железный пол с такою силою,
что икона разбивалась. Наконец, он приказал сжечь неисправные иконы. Царь
Алексей, все время смиренно слушавший патриарха, подошел к нему и тихо сказал:
"Нет, батюшка, не вели их жечь, а прикажи лучше зарыть в землю".
СОДЕЙСТВИЕ НИКОНА РАСКОЛУ.
Что было всего хуже, такое
ожесточение против привычных церковных обычаев и обрядов вовсе не оправдывалось
убеждением Никона в их душевредности и в исключительной душеспасительности
новых. Как до возбуждения вопросов об исправлении книг сам он крестился двумя
перстами, так и после допускал в Успенском соборе и сугубую и трегубую аллилуию.
Уж в конце своего патриаршества в разговоре с покорившимся церкви противником
Иваном Нероновым о старых и новоисправленных книгах он сказал: ...И те, и другие
добры; все равно, по коим хочешь, по тем и служишь... Значит, дело было не в
обряде, а в противлении церковной власти. Неронов с единомышленниками и был
проклят на соборе 1656 г. не за двуперстие или старопечатные книги, а за то, что
не покорялся церковному собору. Вопрос сводился с обряда на правило,
обязывавшее повиноваться церковной власти. На том же основании и собор 1666/67
г. положил клятву на старообрядцев. Дело получало такой смысл: церковная власть
предписывала непривычный для паствы обряд; непокорявшиеся предписанию отлучались
не за старый обряд, а за непокорность; но кто раскаивался, того воссоединяли с
церковью и разрешали ему держаться старого обряда. Это похоже на пробную
лагерную тревогу, приучающую людей быть всегда в боевой готовности. Но такой
искус церковного послушания - пастырская игра религиозной совестью пасомых.
Протопоп Аввакум и другие не нашли в себе столь гибкой совести и стали
расколоучителями. А объяви Никон в самом начале дела всей церкви то же, что он
сказал покорившемуся Неронову, не было бы и раскола. Никон много помог успехам
раскола тем, что плохо понимал людей, с которыми ему приходилось считаться,
слишком низко ценил своих первых противников, Неронова, Аввакума и других своих
бывших друзей. Это были не только популярные проповедники, но и народные
агитаторы. Свой учительный дар они показывали преимущественно на учениях святых
отцов, особенно Иоанна Златоуста, на Маргарите, как назывался сборник его
поучений. И Неронов, священствуя в Нижнем, не расставался с этой книгой, читал и
толковал ее с церковной кафедры, даже по улицам и площадям, собирая большие
толпы народа. Неизвестно, много ли было богословского смысла в этих
экзегетических импровизациях, но темперамента, несомненно, было с избытком.
Притом это был жестокий обличитель мирских пороков, пьянства духовных, гроза
скоморохов, даже воеводских злоупотреблений, за что не раз был биваем. Когда он
стал настоятелем Казанского собора в Москве, туда на его служение сходилась вся
столица, переполняла храм и паперть, облепляла окна; сам царь с семьей приходил
послушать проповедника. На Неронова похожи были и другие из братии царского
духовника. Популярность и благоволение двора наполнили их непомерной дерзостью.
Привыкнув запросто обходиться с Никоном до патриаршества, они теперь стали
грубить ему, срамить его на соборе, доносить на него царю. Патриарх отвечал им
жестокими карами. Муромский протопоп Логгин, благословляя жену местного воеводы
в его доме, спросил ее, не набелена ли она. Обиженный хозяин и гости заговорили:
ты, протопоп, хулишь белила, а без них и образа не пишутся. Если, возразил
Логгин, составы, какими пишутся образа, положить на ваши рожи, вам это не
понравится; сам спас, пресвятая богородица и все святые честнее своих образов. В
Москву сейчас донос от воеводы: Логгин похулил образа спасителя, богородицы и
всех святых. Никон, не разобрав этого нелепого дела, подверг Логгина жестокому
аресту в отместку за то, что протопоп прежде укорял его в гордости и высокоумии.
Внося личную вражду в церковное дело, Никон одновременно и ронял свой пастырский
авторитет, и украшал страдальческим венцом своих противников, а разгоняя их по
России, снабжал глухие углы ее умелыми сеятелями староверья. Так Никон не
оправдал своей диктатуры, не устроил церковных дел, напротив, еще более их
расстроил. Власть и придворное общество погасили в нем духовные силы, дарованные
ему щедрой для него природой. Ничего обновительного, преобразовательного не внес
он в свою пастырскую деятельность; всего менее было этого в предпринятом им
исправлении церковных книг и обрядов. Корректура - не реформа., и если
корректурные поправки были приняты частью духовенства и общества за новые
догматы и вызвали церковный мятеж, то в этом прежде всего виноват сам Никон со
всей русской иерархией: зачем он предпринимал такое дело, обязанный знать, что
из него выйдет, и что же делали русские пастыри в продолжение столетий, если не
научили своей паствы отличать догмат от сугубой аллилуии? Никон не перестраивал
церковного порядка в каком-либо новом духе и направлении, а только заменял одну
церковную форму другой. Самую идею вселенской церкви, во имя которой предпринято
было это шумное дело, он понял слишком узко, по-раскольничьи, с внешней
обрядовой стороны, и не сумел ни провести в сознание русского церковного
общества более широкого взгляда на вселенскую церковь, ни закрепить его
каким-либо вселенским соборным постановлением и завершил все дело тем, что в
лицо обругал судивших его восточных патриархов султанскими невольниками,
бродягами и ворами: ревнуя о единении церкви вселенской, он расколол свою
поместную. Основная струна настроения русского церковного общества, косность
религиозного чувства, слишком крепко натянутая Никоном, оборвавшись, больно
хлестнула и его самого, и правящую русскую иерархию, одобрившую его дело.
ЛАТИНОБОЯЗНЬ.
Кроме собственного образа действий
Никон располагал еще двумя вспомогательными средствами для борьбы со
староверческим упрямством, которые при данной им делу постановке столь же удачно
способствовали успехам староверия. Во-первых, ближайшими сотрудниками Никона и
проводниками его церковных нововведений были южнорусские ученые, о которых знали
в Москве, что они тесно соприкасались с польским католическим миром, или такие
греки, как помянутый Арсений, бродяга-перекрест, бывший католик и по слухам даже
басурман, доверенный книжный справщик Никона, вывезенный им из Соловецкого
исправительного подначала, "ссыльный чернец темных римских отступлений", как о
нем тогда отзывались. Притом введение церковных новшеств сопровождалось резкими
попреками со стороны приезжих малороссов и греков, направленными против
великороссов. Киевский монах, хохол, "нехай", как тогда говорили, на каждом шагу
колол глаза великорусскому обществу, особенно духовенству, злорадно коря его в
невежестве, без умолку твердя о его незнакомстве с грамматикой, риторикой и
другими школьными науками. Симеон Полоцкий торжественно с церковной кафедры в
московском Успенском соборе возвещал, что премудрость не имеет в России где
главу преклонить, что русские учения чуждаются и мудрость, предстоящую богу,
презирают, говорил о невеждах, которые смеют называться учителями, не быв нигде
и никогда учениками: "Поистине это не учители, а мучители". Под этими невеждами
разумелись прежде всего московские священники. В хранителях древнерусского
благочестия эти попреки возбуждали раздраженные вопросы: точно ли они так
невежественны, да и эти привозные школьные науки в самом ли деле так уж
необходимы для охранения вверенного русской церкви сокровища? Общество и без
того уж было настроено тревожно и подозрительно вследствие наплыва иноземцев, а
к этому прибавлялось еще раздраженное чувство национального достоинства,
оскорбляемое своею же православной братией. Наконец, русские и восточные иерархи
на соборе 1666/67 г., предав анафеме двуперстие и другие обряды, признанные
Стоглавым собором 1551 г., торжественно объявили, что "отцы этого собора
мудрствовали невежеством своим безрассудно". Таким образом, русская иерархия
XVII в. предала полному осуждению русскую церковную старину, которая для
значительной части тогдашнего русского общества имела вселенское значение. Легко
понять смущение, в какое все эти явления повергли православные русские умы,
воспитанные в описанном религиозном самодовольстве и так тревожно настроенные.
Это смущение и повело к расколу, как скоро была найдена разгадка непонятных
церковных нововведений. Участие в них приезжих греков и западнорусских ученых,
которых подозревали в связи с латинством, назойливое навязывание ими школьных
наук, процветавших на латинском Западе, появление церковных новшеств вслед за
западными новинами, неразумное пристрастие правительства к казавшимся ненужными
заимствованиям с того же Запада, откуда накликали и сытно кормили столько
еретического люда, - все это распространило в русском рядовом обществе догадку,
что церковные новшества - дело тайной латинской пропаганды, что Никон и его
греческие и киевские сотрудники суть орудие папы, еще раз задумавшего олатынить
русский православный народ.
ПРИЗНАНИЯ ПЕРВЫХ СТАРООБРЯДЦЕВ.
Достаточно заглянуть в самые ранние
произведения старообрядческой литературы, чтобы видеть, что именно такие
впечатления и опасения руководили первыми борцами раскола и их последователями.
В числе этих произведений видное место занимают две челобитныя, из которых одна
подана была царю Алексею в 1662 г. чернецом Савватием, а другая в 1667 г.
братией Соловецкого монастыря, восставшей против Никоновых нововведений.
Издатели исправленных богослужебных книг при Никоне кололи глаза приверженцам
старых неисправных книг тем, что они не знали грамматики и риторики. В ответ на
это чернец Савватий пишет царю о новых книжных исправителях: "Ей, государь!
смутились и книги портят, а начали так плутать недавно: свела их с ума
несовершенная их грамматика да приезжие нехаи". Церковные нововведения Никона
оправдывались одобрением восточных греческих иерархов; но греки давно уже
возбуждали в русском обществе подозрение насчет чистоты своего православия, и в
ответ на обращение к их авторитету соловецкая челобитная замечает, что греческие
учители сами лба перекрестить "по подобию", как подобает, не умеют и без крестов
ходят; им самим следовало бы учиться благочестию у русских людей, а не учить
последних. Церковные нововводители уверяли, что обряды русской церкви неправы;
но та же челобитная, смешивая обряд с вероучением и становясь за русскую
церковную старину, пишет: "Ныне новые вероучители учат нас новой и неслыханной
вере, точно мы мордва или черемиса, бога не знающая; пожалуй, придется нам
вторично креститься, а угодников божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить; и
так уже иноземцы смеются над нами, говоря, что мы и веры-то христианской по сие
время не знали". Очевидно, церковные нововведения задевали самую чувствительную
струну в настроении русского церковного общества, его национально-церковную
самоуверенность. Протопоп Аввакум, один из первых и самый жаркий борец за
раскол, является самым верным истолкователем его основной точки зрения и его
побуждений. В образе действий и в сочинениях этого старообрядческого борца
выражается вся сущность древнерусского религиозного мировоззрения, как оно
сложилось к изучаемому времени. Аввакум видит источник церковной беды, постигшей
Русь, в новых западных обычаях и в новых книгах: "Ох, бедная Русь! - восклицает
он в одном сочинении, - что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких
поступков?". И он того мнения, что восточные церковные учители, которых
призывали на Русь научить и наставить ее в церковных недоумениях, сами нуждаются
в научении и вразумлении и именно со стороны Руси. В своей автобиографии он
рисует бесподобную сцену, разыгравшуюся на судившем его церковном соборе 1667
г., именно свое поведение в присутствии восточных патриархов. Последние говорят
ему: "Ты упрям, протопоп: вся наша Палестина, и сербы, и албанцы, и римляне, и
ляхи - все тремя перстами крестятся; один ты упорно стоишь на своем и крестишься
двумя перстами; так не подобает". Аввакум возразил: "Вселенские учители! Рим
давно пал, и ляхи с ним же погибли, до конца остались врагами христианам; да и у
вас православие пестро, от насилия турского Махмета немощны вы стали и впредь
приезжайте к нам учиться; у нас божией благодатью самодержавие и до
Никона-отступника православие было чисто и непорочно и церковь безмятежна".
Сказав это, подсудимый отошел к дверям палаты да на бок и повалился,
приговаривая: "Посидите вы, а я полежу". Некоторые засмеялись, говоря: "Дурак
протопоп, и патриархов не почитает". Аввакум продолжал: "Мы уроды Христа ради;
вы славны, а мы бесчестны, вы сильны, а мы немощны". Основную мысль,
руководившую первыми вождями раскола, Аввакум выразил так: "Хотя я несмысленный
и очень неученый человек, да то знаю, что все, святыми отцами церкви преданное,
свято и непорочно; держу до смерти, якоже приях, не прелагаю предел вечных; до
нас положено - лежи оно так во веки веков". Эти черты древнерусского
религиозного миросозерцания, которому события XVII в. сообщили чрезвычайно
болезненное возбуждение и одностороннее направление, целиком перешли в раскол,
легли в основание его религиозного миросозерцания.
ОБЗОР СКАЗАННОГО.
Так я объясняю происхождение раскола.
Припомним еще раз изложенные наблюдения, чтобы отдать себе отчет в этом факте и
в его значении.
Внешние бедствия, постигшие Русь и Византию, уединили русскую церковь, ослабив ее духовное общение с церквами православного Востока. Это помутило в русском церковном обществе мысль о вселенской церкви, подставив под нее мысль о церкви русской, как единственной православной, заменившей собою церковь вселенскую. Тогда авторитет вселенского христианского сознания был подменен авторитетом местной национальной церковной старины. Замкнутая жизнь содействовала накоплению в русской церковной практике местных особенностей, а преувеличенная оценка местной церковной старины сообщила этим особенностям значение неприкосновенной святыни. Житейские соблазны и религиозные опасности, принесенные западным влиянием, насторожили внимание русского церковного общества, а в его руководителях пробудили потребность собираться с силами для предстоявшей борьбы, осмотреться и прибраться, подкрепиться содействием других православных обществ и для того теснее сойтись с ними. Так в лучших русских умах около половины XVII в. оживилась замиравшая мысль о вселенской церкви, обнаружившаяся у патриарха Никона нетерпеливой и порывистой деятельностью, направленной к обрядовому сближению русской церкви с восточными церквами. Как самая эта идея, так и обстоятельства ее пробуждения и особенно способы ее осуществления вызвали в русском церковном обществе страшную тревогу. Мысль о вселенской церкви выводила это общество из его спокойного религиозного самодовольства, из национально-церковного самомнения. Порывистое и раздраженное гонение привычных обрядов оскорбляло национальное самолюбие, не давало встревоженной совести одуматься и переломить свои привычки и предрассудки, а наблюдение, что латинское влияние дало первый толчок этим преобразовательным порывам, наполнило умы паническим ужасом при догадке, что этой ломкой родной старины двигает скрытая злокозненная рука из Рима.
НАРОДНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИИ СОСТАВ
СТАРООБРЯДСТВА.
Итак, раскол как
религиозное настроение и как протест против западного влияния произошел от
встречи преобразовательного движения в государстве и церкви с
народно-психологическим значением церковного обряда и с национальным взглядом на
положение русской церкви в христианском мире. С этих сторон он есть явление
народной психологии - и только. В народно-психологическом составе старообрядства
надобно различать три основные элемента: 1) церковное самомнение, по вине
которого православие у нас превратилось в национальную монополию
(национализация вселенской церкви); 2) косность и робость богословской
мысли, не умевшей усвоить духа нового чуждого знания и испугавшейся его, как
нечистого латинского наваждения (латинобоязнь), и 3) инерция религиозного
чувства, не умевшего отрешиться от привычных способов и форм своего возбуждения
и проявления (языческая обрядность). Но протестующее противоцерковное
настроение раскола превратилось в церковный мятеж, когда старообрядцы отказались
повиноваться своим церковным пастырям за их предполагаемую привязанность к
латинству, а русские церковные иерархи с двумя восточными патриархами на
московском соборе 1667 г. отлучили непокорных старообрядцев от православной
церкви за их противление канонической власти церковных пастырей. С того времени
раскол и получил свое бытие не только как религиозное настроение, но и как
особенное церковное общество, отделившееся от господствующей церкви.
РАСКОЛ И ПРОСВЕЩЕНИЕ.
Раскол скоро отозвался и на ходе
русского просвещения, и на условиях западного влияния. Это влияние дало прямой
толчок реакции, породившей раскол, а раскол в свою очередь дал косвенный толчок
школьному просвещению, на которое он так ополчался. И греческие, и
западнорусские ученые твердили о народном русском невежестве, как о коренной
причине раскола. Теперь и стали думать о настоящей правильной школе. Но какого
она должна быть типа и направления? Здесь раскол помог разделиться взглядам,
прежде сливавшимся по недоразумению. Пока перед глазами стояли внешние еретики,
папежники и люторы, для борьбы с ними радушно призывали и греков, и киевлян, и
Епифания Славинецкого, приходившего с греческим языком, и Симеона Полоцкого - с
латинским. Но теперь завелись еретики домашние, староверы, отпавшие от церкви за
ее латинские новшества, и хлебопоклонники, исповедовавшие латинское
учение о времени пресуществления святых даров, и заводчиком этой ереси в Москве
считали латиниста С. Полоцкого. Возник горячий спор об отношении к обоим языкам,
о том, который из них должен лечь в основу православного школьного образования.
Эти языки были тогда не просто разные грамматики и лексиконы, а разные системы
образования, враждебные культуры, непримиримые миросозерцания. Латынь - это
"свободные учения", "свобода взыскания", свобода исследования, о которой говорит
благословенная грамота прихожанам церкви Иоанна Богослова; это науки, отвечающие
и высшим духовным, и ежедневным житейским нуждам человека, а греческий язык -
это "священная философия", грамматика, риторика, диалектика, как служебные
науки, вспомогательные средства для уразумения слова божия. Восторжествовали,
разумеется, эллинисты. В царствование Федора в защиту греческого языка написана
была статья, которая начинается постановкой вопроса и ответом на него: "Учитися
ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и феологии и стихотворному
художеству и оттуду познавати божественная писания, или, не учася сим хитростем,
в простоте богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати, - и что
лучше российским люд ем учитися греческого языка, а не латинского". Латинское
учение по этой статье безусловно вредно и губительно, грозит двумя великими
опасностями: прослышав о принятии этого учения в Москве, лукавые иезуиты
подкрадутся со своими неудобопознаваемыми силлогизмами и "душетлительными
аргументами", и тогда с Великой Россией повторится то же, что испытала Малая,
где "быша мало не все униаты - редции осташася во православии"; потом, если в
народе, особенно в "простаках", прослышат о латинском учении, не знаю, пишет
автор, какого ждать добра, "точию избави боже всякие противности". В 1681 г. при
московской типографии на Никольской открыто было училище с двумя классами для
изучения греческого языка в одном и славянского в другом. Руководил этой
типографской школой долго живший на Востоке иеромонах Тимофей с двумя
учителями-греками. В школу вступило 30 учеников из разных сословий. В 1686 г. их
числилось уже 233 человека. Потом заведена была и высшая школа,
Славяно-греко-латинская академия, открытая в 1686 г. в Заиконоспасском монастыре
на Никольской же. Руководить ею призваны были греки братья Лихуды. Сюда перевели
старших учеников типографского училища, которое стало как бы низшим отделением
академии. В 1685 г. ученик Полоцкого Сильвестр Медведев поднес правительнице
царевне Софье привилегий или устав академии, составленный еще при царе Федоре.
Характер и задачи академии ясно обозначены некоторыми пунктами устава. Она
открывалась для людей всех состояний и давала служебные чины воспитанникам. На
должности ректора и учителей допускались только русские и греки; западнорусские
православные ученые могли занимать эти должности только по свидетельству
достоверных благочестивых людей. Строго запрещалось держать домашних учителей
иностранных языков, иметь в домах и читать латинские, польские, немецкие и
другие еретические книги; за этим, как и за иноверной пропагандой среди
православных, наблюдала академия, которая судила и обвиняемых в хуле на
православную веру, за что виновные подвергались сожжению. Так продолжительные
хлопоты о московском рассаднике свободных учений для всего православного Востока
завершились церковно-полицейским учебным заведением, которое стало первообразом
церковной школы. Поставленная на страже православия от всех европейских
еретиков, без приготовительных школ, академия не могла проникнуть своим
просветительным влиянием в народную массу и была безопасна для раскола.
СОДЕЙСТВИЕ РАСКОЛА ЗАПАДНОМУ ВЛИЯНИЮ.
Сильнее воздействовал раскол в пользу
западного влияния, которым был вызван. Церковная буря, поднятая Никоном, далеко
не захватила всего русского церковного общества. Раскол начался среди русского
духовенства, и борьба в первое время шла собственно между русской правящей
иерархией и той частью церковного общества, которая была увлечена оппозицией
против обрядовых новшеств Никона, веденной агитаторами из подчиненного белого и
черного духовенства. Даже не вся правящая иерархия была первоначально за Никона:
епископ коломенский Павел в ссылке указывал еще на трех архиереев, подобно ему
хранивших древнее благочестие. Единодушие здесь устанавливалось лишь по мере
того, как церковный спор передвигался с обрядовой почвы на каноническую,
превращался в вопрос о противлении паствы законным пастырям. Тогда в правящей
иерархии все поняли, что дело не в древнем или новом благочестии, а в том,
остаться ли на епископской кафедре без паствы или пойти с паствой без кафедры,
подобно Павлу коломенскому. Масса общества вместе с царем относилась к делу
двойственно: принимали нововведение по долгу церковного послушания, но не
сочувствовали нововводителю за его отталкивающий характер и образ действий;
сострадали жертвам его нетерпимости, но не могли одобрять непристойных выходок
его исступленных противников против властей и учреждений, которые привыкли
считать опорами церковно-нравственного порядка. Степенных людей не могла не
повергнуть в раздумье сцена в соборе при расстрижении протопопа Логгина, который
по снятии с него однорядки и кафтана с бранью плевал через порог в алтарь в
глаза Никону и, сорвав с себя рубашку, бросил ее в лицо патриарху. Мыслящие люди
старались вдуматься в сущность дела, чтобы найти для своей совести точку опоры,
которой не давали пастыри. Ртищев, отец ревнителя наук, говорил одной из первых
страдалиц за старую веру кн. Урусовой: смущает меня одно - не ведаю, за истину
ли терпите. Он мог спросить и себя, за истину ли их мучат. Даже дьякон Федор,
один из первых борцов за раскол, в тюрьме наложил на себя пост, чтобы узнать,
что есть неправого в древнем благочестии и что правого в новом. Иные из таких
сомневавшихся уходили в раскол; большая часть успокаивалась на сделке с
совестью, оставались искренне преданы церкви, но отделяли от нее церковную
иерархию и полное равнодушие к последней прикрывали привычным
наружнопочтительным отношением. Правящие государственные сферы были решительнее.
Здесь надолго запомнили, как глава церковной иерархии хотел стать выше царя, как
он на вселенском судилище в 1666 г. срамил московского носителя верховной
власти, и, признав, что от этой иерархии, кроме смуты, ждать нечего, молчаливо,
без слов, общим настроением решили предоставить ее самой себе, но до деятельного
участия в государственном управлении не допускать. Этим закончилась политическая
роль древнерусского духовенства, всегда плохо поставленная и еще хуже
исполняемая. Так было устранено одно из главных препятствий, мешавших успехам
западного влияния. Так как в этом церковно-политическом кризисе ссора царя с
патриархом неуловимыми узлами сплелась с. церковной смутой, поднятой Никоном, то
ее действие на политическое значение духовенства можно признать косвенной
услугой раскола западному влиянию. Раскол оказал ему и более прямую услугу,
ослабив действие другого препятствия, которое мешало реформе Петра,
совершавшейся под этим влиянием. Подозрительное отношение к Западу
распространено было во всем русском обществе и даже в руководящих кругах его,
особенно легко поддававшихся западному влиянию, родная старина еще не утратила
своего обаяния. Это замедляло преобразовательное движение, ослабляло энергию
нововводителей. Раскол уронил авторитет старины, подняв во имя ее мятеж против
церкви, а по связи с ней и против государства. Большая часть русского церковного
общества теперь увидела, какие дурные чувства и наклонности может воспитывать
эта старина и какими опасностями грозит слепая к ней привязанность. Руководители
преобразовательного движения, еще колебавшиеся между родной стариной и Западом,
теперь с облегченной совестью решительнее и смелее пошли своей дорогой. Особенно
сильное действие в этом направлении оказал раскол на самого преобразователя. В
1682 г., вскоре по избрании Петра в цари, старообрядцы повторили свое мятежное
движение во имя старины, старой веры (спор в Грановитой палате 5 июля). Это
движение, как впечатление детства, на всю жизнь врезалось в душе Петра и
неразрывно связало в его сознании представления о родной старине, расколе и
мятеже: старина - это раскол; раскол - это мятеж; следовательно, старина - это
мятеж. Понятно, в какое отношение к родной старине ставила преобразователя такая
связь представлений.
| Предыдущая глава | Оглавление | Следующая глава |
|---|