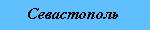
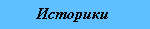

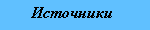
НРАВСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР КАЗАЧЕСТВА.
Мы проследили в общих чертах историю
малороссийского казачества в связи с судьбами Литовской Руси до начала XVII в.,
когда в его положении произошел важный перелом. Мы видели, как изменялся
характер казачества: ватаги степных промышленников выделяли из своей среды
боевые дружины, жившие набегами на соседние страны, а из этих дружин
правительство вербовало пограничную стражу. Все эти разряды казаков одинаково
смотрели в степь, искали там поживы и этими поисками в большей или меньшей
степени способствовали обороне постоянно угрожаемой юго-восточной окраины
государства. С Люблинской унии малороссийское казачество поворачивается лицом
назад, на то государство, которое оно доселе обороняло. Международное положение
Малороссии деморализовало эту сбродную и бродячую массу, мешало зародиться в ней
гражданскому чувству. На соседние страны, на Крым, Турцию, Молдавию, даже Москву
казаки привыкли смотреть, как на предмет добычи, как на «казацкий хлеб». Этот
взгляд они стали переносить и на свое государство с тех пор, как на
юго-восточной его окраине начало водворяться панское и шляхетское землевладение
со своим крепостным правом. Тогда они увидели в своем государстве врага еще злее
Крыма или Турции и с конца XVI в. начали опрокидываться на него с удвоенной
яростью. Так малороссийское казачество осталось без отечества и, значит, без
веры. Тогда весь нравственный мир восточноевропейского человека держался на этих
двух неразрывно связанных одна с другой основах, на отечестве и на отечественном
боге. Речь Посполитая не давала казаку ни того, ни другого. Мысль, что он
православный, была для казака смутным воспоминанием детства или отвлеченной
идеей, ни к чему не обязывавшей и ни на что не пригодной в казачьей жизни. Во
время войн они обращались с русскими и их храмами нисколько не лучше, чем с
татарами, и хуже, чем татары. Православный русский пан Адам Кисель,
правительственный комиссар у казаков, хорошо их знавший, в 1636 г. писал про
них, что они очень любят религию греческую и ее духовенство, хотя в религиозном
отношении более похожи на татар, чем на христиан. Казак оставался без всякого
нравственного содержания. В Речи Посполитой едва ли был другой класс, стоявший
на более низком уровне нравственного и гражданского развития: разве только
высшая иерархия малороссийской церкви перед церковной унией могла потягаться с
казачеством в одичании. В своей Украйне при крайне тугом мышлении оно еще не
привыкло видеть отечество. Этому мешал и чрезвычайно сбродный состав казачества.
В пятисотенный списочный, реестровый отряд казаков, навербованный при Стефане
Батории, вошли люди из 74 городов и уездов Западной Руси и Литвы, даже таких
отдаленных, как Вильна, Полоцк, потом - из 7 польских городов, Познани, Кракова
и др., кроме того, москали из Рязани и откуда-то с Волги, молдаване и вдобавок
ко всему по одному сербу, немцу и татарину из Крыма с некрещеным именем. Что
могло объединять этот сброд? На шее у него сидел пан, а на боку висела сабля:
бить и грабить пана и торговать саблей - в этих двух интересах замкнулось все
политическое миросозерцание казака, вся социальная наука, какую преподавала
Сечь, казацкая академия, высшая школа доблести для всякого доброго казака и
притон бунтов, как его называли поляки. Свои боевые услуги казаки предлагали за
надлежащее вознаграждение и императору германскому против турок, и своему
польскому правительству против Москвы и Крыма, и Москве и Крыму против своего
польского правительства. Ранние казацкие восстания против Речи Посполитой носили
чисто социальный, демократический характер без всякого религиозно-национального
оттенка. Они, конечно, зачинались на Запорожье. Но в первом из них даже вождь
был чужой, из враждебной казакам среды, изменивший своему отечеству и сословию,
замотавшийся шляхтич из Подляхии Крыштоф Косинский Он пристроился к Запорожью, с
отрядом запорожцев нанялся на королевскую службу и в 1591 г. только из-за того,
что наемникам вовремя не уплатили жалованья, набрал запорожцев и всякого
казацкого сброда и принялся разорять и жечь Украйнские города, местечки, усадьбы
шляхты и панов, особенно богатейших на Украйне землевладельцев, князей
Острожских. Князь К. Острожский побил его, взял в плен, простил его с
запорожскими товарищами и заставил их присягнуть на обязательстве смирно сидеть
у себя за порогами. Но месяца через два Косинский поднял новое восстание,
присягнул на подданство московскому царю, хвалился с турецкой и татарской
помощью перевернуть вверх дном всю Украйну, перерезать всю тамошнюю шляхту,
осадил город Черкасы, задумав вырезать всех обывателей со старостой города, тем
самым кн. Вишневецким, который выпросил ему пощаду у кн. Острожского, и,
наконец, сложил голову в бою с этим старостой. Его дело продолжали Лобода и
Наливайко, которые до 1595 г. разоряли правобережную Украйну. И вот этой
продажной сабле без бога и отечества обстоятельства навязали
религиозно-национальное знамя, судили высокую роль стать оплотом западнорусского
православия.
КАЗАКИ - ЗА ВЕРУ И НАРОДНОСТЬ.
Эта неожиданная роль была
подготовлена казачеству другой унией, церковной, совершившейся 27 лет спустя
после политической. Напомню мимоходом главные обстоятельства, которые привели к
этому событию. Католическая пропаганда, возобновившаяся с появлением в Литве
иезуитов в 1569 г., скоро сломила здесь протестантизм и набросилась на
православие. Она встретила сильный отпор сначала в православных магнатах с
князем К. Острожским во главе, а потом в городском населении, в братствах. Но
среди высшей православной иерархии, деморализованной, презираемой своими и
притесняемой католиками, возникла старая мысль о соединении с римской церковью,
и на Брестском соборе 1596 г. русское церковное общество распалось на две
враждебные части - православную и униатскую. Православное общество перестало
быть законной церковью, признанной государством. Рядовому православному
духовенству со смертью двух епископов, не принявших унии, предстояло остаться
без архиереев; русское мещанство теряло политическую опору с начавшимся
повальным переходом православной знати в унию и католичество. Оставалась
единственная сила, за которую могли ухватиться духовенство и мещанство, -
казачество со своим резервом, русским крестьянством. Интересы этих четырех
классов были разные, но это различие забывалось при встрече с общим врагом.
Церковная уния не объединила этих классов, но дала новый стимул их совместной
борьбе и помогла им лучше понимать друг друга: и казаку, и хлопу легко было
растолковать, что церковная уния - это союз ляшского короля, пана, ксендза и их
общего агента жида против русского бога, которого обязан защищать всякий
русский. Сказать загнанному хлопу или своевольному казаку, помышлявшим о погроме
пана, на земле которого они жили, что они этим погромом поборают по обижаемом
русском боге, значило облегчить и ободрить их совесть, придавленную шевелившимся
где-то на дне ее чувством, что как-никак, а погром не есть доброе дело. Первые
казацкие восстания в конце XVI в., как мы видели, еще не имели того
религиозно-национального характера. Но с начала XVII в. казачество постепенно
втягивается в православно-церковную оппозицию. Казацкий гетман Сагайдачный со
всем войском Запорожским вписался в киевское православное братство, в 1620 г.
через иерусалимского патриарха самовольно, без разрешения своего правительства,
восстановил высшую православную иерархию, которая и действовала под казацкой
защитой. В 1625 г. глава этой новопоставленной иерархии, митрополит киевский,
сам призвал на защиту православных киевлян запорожских казаков, которые и
утопили киевского войта за притеснение православных.
РОЗНЬ В КАЗАЧЕСТВЕ.
Так казачество получило знамя,
лицевая сторона которого призывала к борьбе за веру и за народ русский, а
оборотная - к истреблению или изгнанию панов и шляхты из Украйны. Но это знамя
не объединяло всего казачества. Еще в XVI в. среди него началось экономическое
раздвоение. Казаки, ютившиеся по пограничным городам и жившие отхожими
промыслами в степи, потом начали оседать на промысловых угодьях, заводить хутора
и пашни. В начале XVII в. иные пограничные округа, как Каневский, были уже
наполнены казацкими хуторами. Заимка, как обыкновенно бывает при заселении
пустых земель, становилась основанием землевладения. Из этих оседлых
казаков-землевладельцев преимущественно вербовалось реестровое казачество,
получавшее от правительства жалованье. С течением времени реестровые разделились
на территориальные отряды, полки, по городам, служившим административными
средоточиями округов, где жили казаки. Договор казаков с коронным гетманом
Конецпольским в 1625 г. установил реестровое казацкое войско в 6 тыс. человек;
оно делилось тогда на шесть полков (Белоцерковский, Корсунский, Каневский,
Черкасский, Чигиринский и Переяславский); при Б. Хмельницком полков было уже 16,
и в них числилось свыше 230 сотен. Начало этого полкового деления относят ко
времени гетмана Сагайдачного (ум. в 1622 г.), который является вообще
организатором малороссийского казачества. В образе действий этого гетмана и
вскрылся внутренний разлад, таившийся в самом складе казачества. Сагайдачный
хотел резко отделить реестровых казаков, как привилегированное сословие, от
простых посполитых крестьян, переходивших в казаки, и на него жаловались, что
при нем поспольству было тяжело. Шляхтич сам по происхождению, он и на
казачество переносил свои шляхетские понятия. При таком отношении борьба
казачества с Украйнской шляхтой получала особый характер: ее целью становилось
не очищение Украйны от пришлого иноплеменного дворянства, а замещение его своим
туземным привилегированным классом; в реестровом казачестве готовилась будущая
казацкая шляхта. Но истинная сила казачества заключалась не в реестровых. Реестр
даже в составе 6 тысяч вбирал в себя не более десятой доли того люда, который
причислял себя к казачеству и присвоял казацкие права. Это был вообще народ
бедный, бездомный, голота, как его называли. Значительная часть его
проживала в панских и шляхетских вотчинах и в качестве вольных казаков не хотела
нести одинаковых с посполитыми крестьянами повинностей. Польские управители и
паны не хотели знать вольностей этого народа и старались повернуть вольницу в
поспольство. Когда польское правительство нуждалось в боевом содействии казаков,
оно допускало в казацкое ополчение всех, реестровых и нереестровых, но по
миновании надобности вычеркивало, выписывало лишних из реестра, чтобы
вернуть их в прежнее состояние. Эти выпищики, угрожаемые хлопской
неволей, скоплялись в своем убежище Запорожье и оттуда вели восстания. Так
зачинались казацкие мятежи, которые идут с 1624 г. на протяжении 14 лет под
предводительством Жмайла, Тараса, Сулимы, Павлюка, Остранина и Гуни. Реестр при
этом или расходился на две стороны, или весь становился за поляков. Все эти
восстания были неудачны для казаков и кончились в 1638 г. потерей важнейших прав
казачества. Реестр был обновлен и поставлен под команду польских шляхтичей;
место гетмана занял правительственный комиссар; оседлые казаки потеряли свои
наследственные земли; нереестровые возвращены в панскую неволю. Вольное
казачество было уничтожено. Тогда, по выражению малороссийского летописца,
всякую свободу у казаков отняли, тяжкие небывалые подати наложили, церкви и
службу церковную жидам запродали.
МАЛОРОССИЙСКИЙ ВОПРОС.
Ляхи и русские, русские и евреи,
католики и униаты, униаты и православные, братства и архиереи, шляхта и
поспольство, поспольство и казачество, казачество и мещанство, реестровые казаки
и вольная голота, городовое казачество и Запорожье, казацкая старшина и казацкая
чернь, наконец, казацкий гетман и казацкая старшина - все эти общественные силы,
сталкиваясь и путаясь в своих отношениях, попарно враждовали между собой, и все
эти парные вражды, еще скрытые или уже вскрывшиеся, переплетаясь, затягивали
жизнь Малороссии в такой сложный узел, распутать который не мог ни один
государственный ум ни в Варшаве, ни в Киеве. Восстание Б. Хмельницкого было
попыткой разрубить этот узел казацкой саблей. Трудно сказать, предвидели ли в
Москве это восстание и необходимость волей-неволей в него вмешаться. Там не
спускали глаз со Смоленской и Северской земли и после неудачной войны 1632 -
1634 гг. исподтишка готовились при случае поправить неудачу. Малороссия лежала
еще далеко за горизонтом московской политики, да и память о черкасах Лисовского
и Сапеги была еще довольно свежа. Правда, из Киева засылали в Москву с
заявлениями о готовности служить православному московскому государю, даже с
челобитьем к нему взять Малороссию под свою высокую руку, ибо им, православным
малороссийским людям, кроме государя, деться негде. В Москве осторожно отвечали,
что, когда от поляков утеснение в вере будет, тогда государь и подумает, как бы
веру православную от еретиков избавить. С самого начала восстания Хмельницкого
между Москвой и Малороссией установились двусмысленные отношения. Успехи Богдана
превзошли его помышления: он вовсе не думал разрывать с Речью Посполитой, хотел
только припугнуть зазнавшихся панов, а тут после трех побед почти вся Малороссия
очутилась в его руках. Он сам признавался, что ему удалось сделать то, о чем он
и не помышлял. У него начала кружиться голова, особенно за обедом. Ему
мерещилось уже Украйнское княжество по Вислу с великим князем Богданом во главе;
он называл себя «единовладным самодержцем русским», грозил всех ляхов
перевернуть вверх ногами, всю шляхту загнать за Вислу и т. д. Он очень досадовал
на московского царя за то, что тот не помог ему с самого начала дела, не
наступил тотчас на Польшу, и в раздражении говорил московским послам вещи
непригожие и к концу обеда грозил сломать Москву, добраться и до того, кто на
Москве сидит. Простодушная похвальба сменялась униженным, но не простодушным
раскаянием. Эта изменчивость настроения происходила не только от темперамента
Богдана, но и от чувства лжи своего положения. Он не мог сладить с Польшей
одними казацкими силами, а желательная внешняя помощь из Москвы не приходила, и
он должен был держаться за крымского хана. После первых побед своих он намекал
на свою готовность служить московскому царю, если тот поддержит казаков. Но в
Москве медлили, выжидали, как люди, не имеющие своего плана, а чающие его от
хода событий. Там не знали, как поступить с мятежным гетманом, принять ли его
под свою власть или только поддерживать из-за угла против поляков. Как
подданный, Хмельницкий был менее удобен, чем как негласный союзник: подданного
надобно защищать, а союзника можно покинуть по миновении в нем надобности.
Притом открытое заступничество за казаков вовлекало в войну с Польшей и во всю
путаницу малороссийских отношений. Но и остаться безучастным к борьбе значило
выдать врагам православную Украйну и сделать Богдана своим врагом: он грозил,
если его не поддержат из Москвы, наступать на нее с крымскими татарами, а не то,
побившись с ляхами, помириться да вместе с ними поворотиться на царя. Вскоре
после Зборовского договора» сознавая неизбежность новой войны с Польшей, Богдан
высказал царскому послу желание в случае неудачи перейти со всем войском
Запорожским в московские пределы. Только года через полтора, когда Хмельницкий
проиграл уже вторую кампанию против Польши и потерял почти все выгоды,
завоеванные в первой, в Москве, наконец, признали эту мысль Богдана удобнейшим
выходом из затруднения и предложили гетману со всем войском казацким
переселиться на пространные и изобильные земли государевы по рекам Донцу,
Медведице и другим угожим местам: это переселение не вовлекало в войну с
Польшей, не загоняло казаков под власть султана турецкого и давало Москве
хорошую пограничную стражу со стороны степи. Но события не следовали
благоразумному темпу московской политики. Хмельницкий вынужден был к третьей
войне с Польшей при неблагоприятных условиях и усиленно молил московского царя
принять его в подданство, иначе ему остается отдаться под давно предлагаемую
защиту турецкого султана и хана крымского. Наконец, в начале 1653 г. в Москве
решили принять Малороссию в подданство и воевать с Польшей. Но и тут проволочили
дело еще почти на год, только летом объявили Хмельницкому о своем решении, а
осенью собрали земский собор, чтобы обсудить дело по чину, потом еще подождали,
пока гетман потерпел новую неудачу под Жванцем, снова выданный своим союзником -
ханом, и только в январе 1654 г. отобрали присягу от казаков. После капитуляции
под Смоленском в 1634 г. 13 лет ждали благоприятного случая, чтобы смыть позор.
В 1648 г. поднялись казаки малороссийские. Польша очутилась в отчаянном
положении; из Украйны просили Москву помочь, чтобы обойтись без предательских
татар, и взять Украйну под свою державу. Москва не трогалась, боясь нарушить мир
с Польшей, и 6 лет с неподвижным любопытством наблюдала, как дело Хмельницкого,
испорченное татарами под Зборовом и Берестечком, клонилось к упадку, как
Малороссия опустошалась союзниками-татарами и зверски свирепою усобицей, и,
наконец, когда страна уже никуда не годилась, ее приняли под свою высокую руку,
чтобы превратить правящие Украйнские классы из польских бунтарей в озлобленных
московских подданных. Так могло идти дело только при обоюдном непонимании
сторон. Москва хотела прибрать к рукам Украйнское казачество, хотя бы даже без
казацкой территории, а если и с Украйнскими городами, то непременно под
условием, чтобы там сидели московские воеводы с дьяками, а Богдан Хмельницкий
рассчитывал стать чем-то вроде герцога Чигиринского, правящего Малороссией под
отдаленным сюзеренным надзором государя московского и при содействии казацкой
знати, есаулов, полковников и прочей старшины. Не понимая друг друга и не
доверяя одна другой, обе стороны во взаимных сношениях говорили не то, что
думали, и делали то, чего не желали. Богдан ждал от Москвы открытого разрыва с
Польшей и военного удара на нее с востока, чтобы освободить Малороссию и взять
ее под свою руку, а московская дипломатия, не разрывая с Польшей, с тонким
расчетом поджидала, пока казаки своими победами доконают ляхов и заставят их
отступиться от мятежного края, чтобы тогда легально, не нарушая вечного мира с
Польшей, присоединить Малую Русь к Великой. Жестокой насмешкой звучал московский
ответ Богдану, когда он месяца за два до зборовского дела, имевшего решить
судьбу Польши и Малороссии, низко бил челом царю «благословить рати своей
наступить» на общих врагов, а он в божий час пойдет на них от Украйны, моля
бога, чтобы правдивый и православный государь над Украйной царем и самодержцем
был. На это, видимо искреннее, челобитье из Москвы отвечали: вечного мира с
поляками нарушить нельзя, но если король гетмана и все войско Запорожское
освободит, то государь гетмана и все войско пожалует, под свою высокую руку
принять велит. При таком обоюдном непонимании и недоверии обе стороны больно
ушиблись об то, чего недоглядели вовремя. Отважная казацкая сабля и изворотливый
дипломат, Богдан был заурядный политический ум. Основу своей внутренней политики
он раз навеселе высказал польским комиссарам: «Провинится князь, режь ему шею;
провинится казак, и ему тоже - вот будет правда». Он смотрел на свое восстание
только как на борьбу казаков со шляхетством, угнетавшим их, как последних рабов,
по его выражению, и признавался, что он со своими казаками ненавидит шляхту и
панов до смерти. Но он не устранил и даже не ослабил той роковой социальной
розни, хотя ее и чуял, какая таилась в самой казацкой среде, завелась до него и
резко проявилась тотчас после него: это - вражда казацкой старшины с рядовым
казачеством, «городовой и запорожской чернью», как тогда называли его на
Украйне. Эта вражда вызвала в Малороссии бесконечные смуты и привела к тому, что
правобережная Украйна досталась туркам и превратилась в пустыню. И Москва
получила по заслугам за свою тонкую и осторожную дипломатию. Там смотрели на
присоединение Малороссии с традиционно-политической точки зрения, как на
продолжение территориального собирания Русской земли, отторжение обширной
русской области от враждебной Польши к вотчине московских государей, и по
завоевании Белоруссии и Литвы в 1655 г. поспешили внести в царский титул «всея
Великия и Малыя и Белыя России самодержца Литовского, Волынского и Подольского».
Но там плохо понимали внутренние общественные отношения Украйны, да и мало
занимались ими, как делом неважным, и московские бояре недоумевали, почему это
посланцы гетмана Выговского с таким презрением отзывались о запорожцах, как о
пьяницах и игроках, а между тем все казачество и с самим гетманом зовется
Войском Запорожским, и с любопытством расспрашивали этих посланцев, где
живали прежние гетманы, в Запорожье или в городах, и из кого их выбирали, и
откуда сам Богдан Хмельницкий выбран. Очевидно, московское правительство,
присоединив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях, как в темном лесу.
Зато малороссийский вопрос, так криво поставленный обеими сторонами, затруднил и
испортил внешнюю политику Москвы на несколько десятилетий, завязил ее в
невылазные малороссийские дрязги, раздробил ее силы в борьбе с Польшей, заставил
ее отказаться и от Литвы, и от Белоруссии с Волынью и Подолией и еле-еле дал
возможность удержать левобережную Украйну с Киевом на той стороне Днепра. После
этих потерь Москва могла повторить про себя самое слова, какие однажды сказал,
заплакав, Б. Хмельницкий в упрек ей за неподание помощи вовремя: «Не того мне
хотелось и не так было тому делу быть».
БАЛТИЙСКИЙ ВОПРОС.
Малороссийский вопрос своим прямым
или косвенным действием усложнил внешнюю политику Москвы. Царь Алексей, начав
войну с Польшей за Малороссию в 1654 г., быстро завоевал всю Белоруссию и
значительную часть Литвы с Вильной, Ковной и Гродной. В то время как Москва
забирала восточные области Речи Посполитой, на нее же напал с севера другой
враг, шведский король Карл X, который так же быстро завоевал всю Великую и Малую
Польшу с Краковом и Варшавой, выгнал короля Яна Казимира из Польши и
провозгласил себя польским королем, наконец, даже хотел отнять Литву у царя
Алексея. Так два неприятеля, бившие Польшу с разных сторон, столкнулись и
поссорились из-за добычи. Царь Алексей вспомнил старую мысль царя Ивана о
балтийском побережье, о Ливонии, и борьба с Польшей прервалась в 1656 г. войной
со Швецией. Так опять стал на очередь забытый вопрос о распространении
территории Московского государства до естественного ее рубежа, до балтийского
берега. Вопрос ни на шаг не подвинулся к решению: Риги взять не удалось, и скоро
царь прекратил военные действия, а потом заключил мир со Швецией (в Кардисе,
1661 г.), воротив ей все свои завоевания. Как ни была эта война бесплодна и даже
вредна Москве тем, что помогла Польше оправиться от шведского погрома, все же
она помешала несколько соединиться под властью одного короля двум государствам,
хотя одинаково враждебным Москве, но постоянно ослаблявшим свои силы взаимною
враждой.
ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС.
Уже умиравший Богдан и тут стал
поперек дороги и друзьям, и недругам, обоим государствам, и тому, которому
изменил, и тому, которому присягал. Испуганный сближением Москвы с Польшей, он
вошел в соглашение со шведским королем Карлом Х и трансильванским князем Рагоци,
и они втроем составили план раздела Речи Посполитой. Истый представитель своего
казачества, привыкшего служить на все четыре стороны, Богдан перебывал слугой
или союзником, а подчас и предателем всех соседних владетелей, и короля
польского, и царя московского, и хана крымского, и султана турецкого, и
господаря молдавского, и князя трансильванского и кончил замыслом стать вольным
удельным князем малороссийским при польско-шведском короле, которым хотелось
быть Карлу X. Эти предсмертные козни Богдана и заставили царя Алексея кое-как
кончить шведскую войну. Малороссия втянула Москву и в первое прямое столкновение
с Турцией. По смерти Богдана началась открытая борьба казацкой старшины с
чернью. Преемник его Выговский передался королю и с татарами под Конотопом
уничтожил лучшее войско царя Алексея (1659). Ободренные этим и освободившись от
шведов с помощью Москвы, поляки не хотели уступать ей ничего из ее завоеваний.
Началась вторая война с Польшей, сопровождавшаяся для Москвы двумя страшными
неудачами, поражением князя Хованского в Белоруссии и капитуляцией Шереметева
под Чудновом на Волыни вследствие казацкой измены. Литва и Белоруссия были
потеряны. Преемники Выговского, сын Богдана Юрий и Тетеря, изменили. Украйна
разделилась по Днепру на две враждебные половины, левую московскую и правую
польскую. Король захватил почти всю Малороссию. Обе боровшиеся стороны дошли до
крайнего истощения: в Москве нечем стало платить ратным людям и выпустили медные
деньги по цене серебряных, что вызвало московский бунт 1662 г.; Великая Польша
взбунтовалась против короля под предводительством Любомирского. Москва и Польша,
казалось, готовы были выпить друг у друга последние капли крови. Их выручил враг
обеих гетман Дорошенко, поддавшись с правобережной Украйны султану (1666). Ввиду
грозного общего врага Андрусовское перемирие 1667 г. положило конец войне.
Москва удержала за собой области Смоленскую и Северскую и левую половину Украйны
с Киевом, стала широко растянутым фронтом на Днепре от его верховьев до
Запорожья, которое, согласно своей исторической природе, осталось в межеумочном
положении, на службе у обоих государств, Польского и Московского. Новая династия
замолила свои столбовские, деулинские и поляновские грехи. Андрусовский договор
произвел крутой перелом во внешней политике Москвы. Руководителем ее вместо
осторожно-близорукого Б. И. Морозова стал виновник этого договора А. Л.
Ордин-Нащокин, умевший заглядывать вперед. Он начал разрабатывать новую
политическую комбинацию. Польша перестала казаться опасной. Вековая борьба с ней
приостановилась надолго, на целое столетие. Малороссийский вопрос заслонили
другие задачи, им же и поставленные. Они направлены были на Ливонию, т. е.
Швецию, и на Турцию. Для борьбы с той и другой нужен был союз с Польшей,
угрожаемой обеими; она сама усиленно хлопотала об этом союзе. Ордин-Нащокин
развил идею этого союза в целую систему. В записке, поданной царю еще до
Андрусовского договора, он тремя соображениями доказывал необходимость этого
союза: только этот союз даст возможность покровительствовать православным в
Польше; только при тесном союзе с Польшей можно удержать казаков от злой войны с
Великороссией по наущению хана и шведа; наконец, молдаване и волохи, теперь
отделенные от православной Руси враждебной Польшей, при нашем союзе с нею к нам
пристанут и отпадут от турок, и тогда от самого Дуная через Днестр из всех
волохов, из Подолии, Червонной Руси, Волыни, Малой и Великой Руси составится
цельный многочисленный народ христианский, дети одной матери, православной
церкви. Последнее соображение должно было встретить в царе особенное сочувствие:
мысль о турецких христианах давно занимала Алексея. В 1656 г. на пасху,
похристосовавшись в церкви с жившими в Москве греческими купцами, он спросил их,
хотят ли они, чтобы он освободил их от турецкой неволи, и на понятный ответ их
продолжал: «Когда вернетесь в свою страну, просите своих архиереев, священников
и монахов молиться за меня, и по их молитвам мой меч рассечет выю моих врагов».
Потом с обильными слезами он сказал, обращаясь к боярам, что его сердце
сокрушается о порабощении этих бедных людей неверными и бог взыщет с него в день
судный за то, что, имея возможность освободить их, он пренебрегает этим, но он
принял на себя обязательство принести в жертву свое войско, казну, даже кровь
свою для их избавления. Так рассказывали сами греческие купцы. В договоре 1672
г. незадолго до нашествия султана на Польшу царь обязался помогать королю в
случае нападения турок и послать к султану и хану отговаривать их от войны с
Польшей. Виды непривычных союзников далеко не совпадали: Польша прежде всего
заботилась о своей внешней безопасности; для Москвы к этому присоединялся еще
вопрос о единоверцах, и притом вопрос обоюдосторонний - о турецких христианах с
русской стороны и о русских магометанах с турецкой. Так скрестились религиозные
отношения на европейском Востоке еще в XVI в. Московский царь Иван, как вы
знаете, покорил два магометанских царства, Казанское и Астраханское. Но
покоренные магометане с надеждой и мольбой обращались к своему духовному главе,
преемнику халифов, султану турецкому, призывая его освободить их от
христианского ига. В свою очередь под рукой турецкого султана жило на Балканском
полуострове многочисленное население, единоверное и единоплеменное с русским
народом. Оно также с надеждой и мольбой обращалось к московскому государю,
покровителю православного Востока, призывая его освободить турецких христиан от
магометанского ярма. Мысль о борьбе с турками при помощи Москвы тогда стала
бойко распространяться среди балканских христиан. Согласно договору, московские
послы поехали в Константинополь отговорить султана от войны с Речью Посполитой.
Знаменательные вести привезли они из Турции. Проезжая по Молдавии и Валахии, они
слышали такие толки в народе: «Дал бы только бог хотя малую победу одержать над
турками христианам, и мы тотчас стали бы промышлять над неверными». Но в
Константинополе московским послам сказали, что недавно приходили сюда послы от
казанских и астраханских татар и от башкир, которые просили султана принять в
свое подданство царства Казанское и Астраханское, жалуясь, что московские люди,
ненавидя их басурманскую веру, многих из них бьют до смерти и разоряют
беспрестанно. Султан велел татарам потерпеть еще немного и пожаловал
челобитчиков халатами.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
Так малороссийский вопрос потянул за
собою два других: вопрос балтийский - о приобретении балтийского побережья и
восточный - об отношениях к Турции из-за балканских христиан. Последний вопрос
тогда вынашивался только в идее, в благожелательных помыслах царя Алексея и
Ордина-Нащокина: тогда еще не под силу был русскому государству прямой
практический приступ к этому вопросу, и он пока сводился для московского
правительства к борьбе с врагом, стоявшим на пути к Турции, с Крымом. Этот Крым
сидел бельмом на глазу у московской дипломатии, входил досадным элементом в
состав каждой ее международной комбинации. Уже в самом начале царствования
Алексея, не успев еще свести своих очередных счетов с Польшей, Москва склоняла
ее к наступательному союзу против Крыма. Когда Андрусовское перемирие по
Московскому договору 1686 г. превратилось в вечный мир и Московское государство
впервые вступило в европейскую коалицию, в четверной союз с Польшей, Германской
империей и Венецией против Турции, Москва взяла на себя в этом предприятии
наиболее разученную ею партитуру - борьбу с татарами, наступление на Крым. Так с
каждым шагом осложнялась внешняя политика Московского государства. Правительство
завязывало вновь или восстановляло порванные связи с обширным кругом держав,
которые были ему нужны по его отношениям к ближайшим враждебным соседям или
которым оно было нужно по их европейским отношениям. А Московское государство
оказалось тогда нелишним в Европе. В пору крайнего международного своего
унижения, вскоре после Смуты, оно не теряло известного дипломатического веса.
Международные отношения на Западе складывались тогда для него довольно
благоприятно. Там начиналась Тридцатилетняя война и отношения государств теряли
устойчивость; каждое искало внешней опоры, боясь одиночества. Московскому
государству при всем его политическом бессилии придавало силу его географическое
положение и церковное значение. Французский посол Курменен, первый посол из
Франции, явившийся в Москву, не из одной только французской вежливости называл
царя Михаила начальником над восточной страною и над греческою верою. Москва
стояла в тылу у всех государств между Балтийским и Адриатическим морем, и, когда
здесь международные отношения запутались и завязалась борьба, охватившая весь
континентальный Запад, каждое из этих государств заботилось обеспечить свой тыл
с востока заключением союза или приостановкой вражды с Москвой. Вот почему с
самого начала деятельности новой династии круг внешних сношений Московского
государства постепенно расширяется даже без усилий со стороны его правительства.
Его вовлекают различные политические и экономические комбинации, складывавшиеся
тогда в Европе. Англия и Голландия помогают царю Михаилу уладить дела с
враждебными ему Польшей и Швецией, потому что Московия для них выгодный рынок и
удобный транзитный путь на Восток, в Персию, даже в Индию. Французский король
предлагает Михаилу союз тоже по торговым интересам Франции на Востоке,
соперничая с англичанами и голландцами. Сам султан зовет Михаила воевать вместе
Польшу, а шведский король Густав Адольф, обобравший Москву по Столбовскому
договору, имея общих с нею недругов в Польше и Австрии, внушает московским
дипломатам идею антикатолического союза, соблазняет их мыслью сделать их
униженное отечество органическим и влиятельным членом европейского политического
мира, называет победоносную шведскую армию, действовавшую в Германии, передовым
полком, бьющимся за Московское государство, и первый заводит постоянного
резидента в Москве. Государство царя Михаила было слабее государства царей Ивана
и Федора, но было гораздо менее одиноким в Европе. Еще в большей степени можно
сказать это о государстве царя Алексея. Приезд иноземного посольства становится
тогда привычным явлением в Москве. Московские послы ездят ко всевозможным
европейским дворам, даже к испанскому и тосканскому. Впервые московская
дипломатия выходит на такое широкое поприще. С другой стороны, то теряя, то
приобретая на западных границах, государство непрерывно продвигалось на Восток.
Русская колонизация, еще в XVI в. перевалившая за Урал, в продолжение XVII в.
уходит далеко в глубь Сибири и достигает китайской границы, расширяя московскую
территорию уже к половине XVII в. по крайней мере тысяч на 70 квадратных миль,
если только можно прилагать какую-либо геометрическую меру к тамошним
приобретениям. Эти успехи колонизации на Востоке привели Московское государство
в столкновение и с Китаем.
ЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ.
Так осложнялись и затруднялись
внешние отношения государства. Они оказали разностороннее действие на его
внутреннюю жизнь. Учащавшиеся войны все ощутительнее давали чувствовать
неудовлетворительность домашних порядков и заставляли присматриваться к чужим.
Учащавшиеся посольства умножали случаи для поучительных наблюдений. Более
близкое знакомство с западноевропейским миром выводило хотя бы только правящие
сферы из заколдованного предрассудками и одиночеством круга москворецких
понятий. Но всего больнее войны и наблюдения давали чувствовать скудость своих
материальных средств, доисторическую невооруженность и малую производительность
народного труда, неумелость прибыльного его приложения. Каждая новая война,
каждое поражение несло правительству новые задачи и заботы, народу новые
тяжести. Внешняя политика государства вынуждала все большее напряжение народных
сил. Достаточно краткого перечня войн, веденных первыми тремя царями новой
династии, чтобы почувствовать степень этого напряжения. При царе Михаиле шли две
войны с Польшей и одна со Швецией; все три кончились неудачно. При Михайловом
преемнике шли опять две войны с Польшей за Малороссию и одна со Швецией; две из
них кончились опять неудачно. При царе Федоре шла тяжелая война с Турцией,
начавшаяся при его отце в 1673 г. и кончившаяся бесполезным Бахчисарайским
перемирием в 1681 г.: западная заднепровская Украйна осталась за турками. Если
вы рассчитаете продолжительность всех этих войн, увидите, что на какие-нибудь 70
лет (1613 - 1682) приходится до 30 лет войны, иногда одновременно с несколькими
неприятелями.
| Предыдущая глава | Оглавление | Следующая глава |
|---|