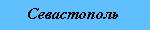
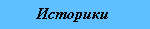

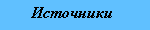
В.О. Ключевский. Курс русской истории.
ЛЕКЦИЯ XLI
ВЗГЛЯД НА IV ПЕРИОД РУССКОЙ ИСТОРИИ. ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ ПЕРИОДА. ВИДИМЫЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ В СООТНОШЕНИИ ЭТИХ ФАКТОВ. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НА ВНУТРЕННЮЮ
ЖИЗНЬ ГОСУДАРСТВА. ХОД ДЕЛ В IV ПЕРИОДЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ ВЛИЯНИЕМ. ГОСУДАРСТВО И
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА. НАЧАЛО СМУТЫ. КОНЕЦ ДИНАСТИИ. ЦАРЬ ФЕДОР И БОРИС
ГОДУНОВ. ПОВОДЫ К СМУТЕ. САМОЗВАНСТВО.
IV ПЕРИОД.
Мы остановились перед IV периодом нашей
истории, последним периодом, доступным изучению на всем своем протяжении. Под
этим периодом я разумею время с начала XVII в. до начала царствования императора
Александра II (1613 - 1855 гг.). Моментом отправления в этом периоде можно
принять год вступления на престол первого царя новой династии. Смутная эпоха
самозванцев является переходным временем на рубеже двух смежных периодов, будучи
связана с предшествующим своими причинами, с последующим - своими следствиями.
Этот период имеет для нас
особенный интерес. Это не просто исторический период, а целая цепь эпох, сквозь
которую проходит ряд важных фактов, составляющих глубокую основу современного
склада нашей жизни, - основу, правда, разлагающуюся, но еще не замененную. Это,
повторю, не один из периодов нашей истории: это - вся наша новая история.
В понятиях и отношениях, образующихся в эти 2 1/2 столетия, замечаем ранние
зародыши идей, соприкасающихся с нашим сознанием, наблюдаем завязку порядков,
бывших первыми общественными впечатлениями людей моего возраста. Изучая явления
этого времени, чувствуешь, что, чем дальше, тем больше входишь в область
автобиографии, подступаешь к изучению самого себя, своего собственного духовного
содержания, насколько оно связано с прошлым нашего отечества. Все это и
напрягает внимание, и предостерегает мысль от увлечений. Обязанные во всем быть
искренними искателями истины, мы всего менее можем обольщать самих себя, когда
хотим измерить свой исторический рост, определить свою общественную зрелость.
ГЛАВНЫЕ ФАКТЫ.
Перехожу к перечню явлений изучаемого
периода; но прежде оглянемся еще раз на изученные века нашей истории, представим
себе ее ход в краткой схеме. Мы уже знаем, что возникавшие у нас до конца XVI в.
формы политического быта складывались в тесной связи с географическим
размещением населения. Московское государство было создано русским населением,
сосредоточившимся в самой средине восточноевропейской равнины, в
гидрографическом ее узле, в области верхней Волги, и образовавшим здесь
великорусское племя. В этом государстве под рукой Калитина рода великорусское
племя и объединилось как политическая народность. Московский государь правил
объединенной Великороссией с помощью московского боярства, составившегося из
старинных московских боярских родов, из бывших удельных князей и их бояр.
Государственный порядок все решительнее переходил на основу тягла,
принудительной разверстки специальных государственных повинностей между
классами общества. Однако при этой разверстке крестьянский труд, бывший главной
производительной силой страны, оставался еще по закону свободным, хотя на деле
значительная часть крестьянского населения входила уже в долговую зависимость от
землевладельцев, грозившую ей законной крепостной неволей.
Со второго десятилетия XVII в. в
нашей истории последовательно выступает ряд новых фактов, которые заметно
отличают дальнейшее время от предшествующего. Во-первых, на московском престоле
садится новая династия. Далее, эта династия действует на поприще, все более
расширяющемся. Государственная территория, дотоле заключенная в пределах
первоначального расселения великорусского племени, теперь переходит далеко за
эти пределы и постепенно вбирает в себя всю русскую равнину, распространяясь как
до географических ее границ, так почти везде до пределов русского
народонаселения. В состав русского государства постепенно входят Русь Малая,
Белая и, наконец, Новороссия, новый русский край, образовавшийся путем
колонизации в южнорусских степях. Раскинувшись от берегов морей Белого и
Балтийского до Черного и Каспийского, до Уральского и Кавказского хребтов,
территория государства переваливает далеко за Кавказский хребет на юге, за Урал
и Каспий на востоке. Вместе с тем происходит важная перемена и во внутреннем
строе государства: об руку с новой династией становится и идет новый
правительственный класс. Старое боярство постепенно рассыпается, худея
генеалогически и скудея экономически, а с его исчезновением падают и те
политические отношения, какие прежде в силу обычая сдерживали верховную власть.
На его место во главе общества становится новый класс, дворянство,
составившееся из прежних столичных и провинциальных служилых людей, и в его
пестрой, разнородной массе растворяется редеющее боярство. Между тем раньше
заложенная основа политического строя, классовая разверстка повинностей,
укрепляется, превращая общественные классы в обособленные сословия, и даже
постепенно, особенно в царствование Петра Великого, расширяется, осложняя
накоплявшийся запас специальных повинностей новыми тягостями, падавшими на
отдельные классы. Среди этого непрерывного напряжения народных сил окончательно
гибнет и свобода крестьянского труда: владельческие крестьяне попадают в
крепостную неволю, и самая эта неволя становится новой специальной
государственной повинностью, падающей на этот класс. Но, стесняемый политически,
народный труд расширяется экономически: к прежней сельскохозяйственной
эксплуатации страны теперь присоединяется и промышленная ее разработка; рядом с
земледелием, остающимся главной производительной силой государства, является с
возрастающим значением в народном хозяйстве и промышленность обрабатывающая,
заводско-фабричная, поднимающая нетронутые дотоле естественные богатства страны.
ИХ СООТНОШЕНИЕ.
Таковы главные новые факты,
обнаруживающиеся в период, который нам предстоит изучать: это - новая династия,
новые пределы государственной территории, новый строй общества с новым
правительственным классом во главе, новый склад народного хозяйства. Соотношение
этих фактов способно вызвать недоумение. В них при первом взгляде легко заметить
два параллельных течения: 1) до половины XIX в. внешнее территориальное
расширение государства идет в обратно пропорциональном отношении к развитию
внутренней свободы народа; 2) политическое положение трудящихся классов
устанавливается в обратно пропорциональном отношении к экономической
производительности их труда, т. е. этот труд становится тем менее свободен,
чем более делается производителен. Отношение народного хозяйства к социальному
строю народа, открывающееся во втором процессе, противоречит нашему привычному
представлению о связи производительности народного труда с его свободой. Мы
привыкли думать, что рабский труд не может равняться в энергии с трудом
свободным и что трудовая сила не может развиваться в ущерб правовому положению
трудящихся классов. Это экономическое противоречие еще обостряется политическим.
Сопоставляя психологию народов с жизнью отдельных людей, мы привыкли думать, что
по мере усиления массовой, как и индивидуальной, деятельности и по мере
расширения ее поприща в массах, как и в отдельных людях, поднимается сознание
своей силы, а это сознание - источник чувства политической свободы.
Открывающееся в нашей истории
влияние территориального расширения государства на отношение государственной
власти к обществу не оправдывает и этого мнения: у нас по мере расширения
территории вместе с ростом внешней силы народа все более стеснялась его
внутренняя свобода. Напряжение народной деятельности глушило в народе его силы,
на расширявшемся завоеваниями поприще увеличивался размах власти, но уменьшалась
подъемная сила народного духа. Внешние успехи новой России напоминают полет
птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев. С обоими
указанными противоречиями связано третье. Я сейчас сказал о поглощении
московского боярства дворянством. Закон 1682 г., отменивший местничество,
закрепил это поглощение, формально уравнял оба служилые класса по службе.
Боярство, аристократия породы, было правящим классом. Отмена местничества
служила первым шагом по пути к демократизации управления. Но на этом движение не
остановилось: за первым шагом последовали дальнейшие. В эпоху Петра старое
московское дворянство «по отечеству» пополняется из всех слоев общества, даже из
иноземцев, людьми разных чинов, не только «белых» нетяглых, но и «черных»
тяглых, даже холопами, поднимавшимися выслугой: табель о рангах 1722 г. широко
раскрывает этим «разночинцам» служебные двери в «лучшее старшее дворянство».
Можно было бы ожидать, что вся эта социальная перетасовка господствующего класса
поведет к демократическому уравнению общества. Но, худея генеалогически,
правящий класс непомерно добрел политически: облагороженные разночинцы получали
личные и общественные права, каких не имело старое родовитое боярство. Поместья
стали собственностью дворянства, крестьяне - его крепостными; при Петре III с
сословия снята была обязательная служба; при Екатерине II оно получило новое
корпоративное устройство с сословным самоуправлением, с широким участием в
местном управлении и суде и с правом «делать представления и жалобы» самой
верховной власти; при Николае I это преимущество расширено было правом
дворянских собраний делать власти представления и о нуждах всех других классов
местного общества. Вместе с такими сословными приобретениями росла и
политическая сила сословия. Уже в XVII в. московское правительство начинает
править обществом посредством дворянства, а в XVIII в. это дворянство само
пытается править обществом посредством правительства. Но политический принцип,
под фирмой которого оно хотело властвовать, перегнул его по-своему: в XIX в.
дворянство пристроено было к чиновничеству как его плодовитейший рассадник, и в
половине этого века Россия управлялась не аристократией и не демократией, а
бюрократией, т. е. действовавшей вне общества и лишенной всякого социального
облика кучей физических лиц разнообразного происхождения, объединенных только
чинопроизводством. Таким образом, демократизация управления
сопровождалась усилением социального неравенства и дробности. Это социальное
неравенство еще усилилось нравственным отчуждением правящего класса от
управляемой массы. Говорят, культура сближает людей, уравнивает общество. У нас
было не совсем так. Все усиливавшееся общение с Западной Европой приносило к нам
идеи, нравы, знания, много культуры, но этот приток скользил по верхушкам
общества, осаждаясь на дно частичными реформами, более или менее осторожными и
бесплодными. Просвещение стало сословной монополией господ, до которой не могло
без опасности для государства дотрагиваться непросвещенное простонародье, пока
не просветится. В исходе XVII в. люди, задумавшие учредить в Москве академию,
первое у нас высшее училище, находили возможным открыть доступ в нее «всякого
чина, сана и возраста людям» без оговорок. Полтораста лет спустя, при Николае I,
секретный комитет гр. Кочубея, на который возложено было чисто
преобразовательное поручение, решительно высказался по поводу самоубийства
обучавшегося живописи дворового человека за вред допущения крепостных людей «в
такие училища, где они приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не
соответствующим их состоянию».
Изложенные три процесса, полные
таких противоречий и захватывающие все главные явления периода, не были
аномалиями, отрицанием исторической закономерности: назовем их лучше
историческими антиномиями, исключениями из правил исторической жизни,
произведениями своеобразного местного склада условий, который, однако, раз
образовавшись, в дальнейшем своем действии повинуется уже общим законам
человеческой жизни, как организм с расстроенной нервной системой функционирует
по общим нормам органической жизни, только производит соответствующие своему
расстройству ненормальные явления.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ.
Объяснения этих антиномий нашей новой
истории надобно искать в том отношении, какое устанавливалось у нас между
государственными потребностями и народными средствами для их удовлетворения.
Когда перед европейским государством становятся новые и трудные задачи, оно ищет
новых средств в своем народе и обыкновенно их находит, потому что европейский
народ, живя нормальной, последовательной жизнью, свободно работая и размышляя,
без особенной натуги уделяет на помощь своему государству заранее заготовленный
избыток своего труда и мысли, - избыток труда в виде усиленных налогов, избыток
мысли в лице подготовленных, умелых и добросовестных государственных дельцов.
Все дело в том, что в таком народе культурная работа ведется незримыми и
неуловимыми, но дружными усилиями отдельных лиц и частных союзов независимо от
государства и обыкновенно предупреждает его нужды. У нас дело шло в обратном
порядке. Когда царь Михаил, сев на разоренное царство, через посредство земского
собора обратился к земле за помощью, он встретил в избравших его земских
представителях преданных и покорных подданных, но не нашел в них ни пригодных
сотрудников, ни состоятельных плательщиков. Тогда пробудилась мысль о
необходимости и средствах подготовки тех и других, о том, как добываются и
дельцы и деньги там, где того и другого много; тогда московские купцы заговорили
перед правительством о пользе иноземцев, которые могут доставить «кормление»,
заработок бедным русским людям, научив их своим мастерствам и промыслам. С тех
пор не раз повторялось однообразное явление. Государство запутывалось в
нарождавшихся затруднениях; правительство, обыкновенно их не предусматривавшее и
не предупреждавшее, начинало искать в обществе идей и людей, которые выручили бы
его, и, не находя ни тех, ни других, скрепя сердце, обращалось к Западу, где
видело старый и сложный культурный прибор, изготовлявший и людей и идеи, спешно
вызывало оттуда мастеров и ученых, которые завели бы нечто подобное и у нас,
наскоро строило фабрики и учреждало школы, куда загоняло учеников. Но
государственная нужда не терпела отсрочки, не ждала, пока загнанные школьники
доучат свои буквари, и удовлетворять ее приходилось, так сказать, сырьем,
принудительными жертвами, подрывавшими народное благосостояние и стеснявшими
общественную свободу. Государственные требования, донельзя напрягая народные
силы, не поднимали их, а только истощали: просвещение по казенной надобности, а
не по внутренней потребности давало тощие, мерзлые плоды, и эти припадочные
порывы к образованию порождали в подраставших поколениях только скуку и
отвращение к науке, как к рекрутской повинности. Народное образование получило
характер правительственного заказа или казенной поставки подростков для выучки
по определенной программе. Учреждались дорогие дворянские кадетские корпуса,
инженерные школы, воспитательные общества для благородных и мещанских девиц,
академии художеств, гимназии, разводились в барских теплицах тропические
растения, но на протяжении двух столетий не открыли ни одной чисто народной
общеобразовательной или земледельческой школы. Новая, европеизированная Россия в
продолжение четырех-пяти поколений была Россией гвардейских казарм,
правительственных канцелярий и барских усадеб: последние проводили в первые и во
вторые посредством легкой перегонки в доморощенных школах или экзотических
пансионах своих недорослей, а взамен их получали оттуда отставных бригадиров с
мундиром. Выдавливая из населения таким способом надобных дельцов, государство
укореняло в обществе грубоутилитарный взгляд на науку как путь к чинам и взяткам
и вместе с тем формировало из верхних классов, всего более из дворянства, новую
служилую касту, оторванную от народа сословными и чиновными преимуществами и
предрассудками, а еще более служебными злоупотреблениями. Так случилось, что
расширение государственной территории, напрягая не в меру и истощая народные
средства, только усиливало государственную власть, не поднимая народного
самосознания, вталкивало в состав управления новые, более демократические
элементы и при этом обостряло неравенство и рознь общественного состава,
осложняло народнохозяйственный труд новыми производствами, обогащая не народ, а
казну и отдельных предпринимателей, и вместе с тем принижало политически
трудящиеся классы. Все эти неправильности имели один общий источник -
неестественное отношение внешней политики государства к внутреннему росту
народа: народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся
перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа
народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство
пухло, а народ хирел.
ОБЩИЙ ХОД ДЕЛ.
Едва ли в истории какой-либо другой
страны влияние международного положения государства на его внутренний строй было
более могущественно, и ни в какой период нашей истории оно не обнаруживалось так
явственно, как в тот, к которому мы теперь обращаемся. Припомним главные задачи
внешней политики Московского государства в XV - XVI вв. и их происхождение, их
связь с прошлыми судьбами нашей страны. В I период нашей истории под напором
внешних врагов разноплеменные и рассеянные элементы населения кое-как сжались в
нечто цельное; завязывалась русская народность. Во II период среди усиленных
внешних ударов с татарской и литовской стороны эта народность разбилась на две
ветви, великорусскую и малорусскую, и с тех пор каждая из них имела свою особую
судьбу. Великорусская ветвь в лесах верхнего Поволжья сохранила свои силы и
развила их в терпеливой борьбе с суровой природой и внешними врагами. Благодаря
тому она смогла сомкнуться в довольно устойчивое боевое государство. В III
период это государство, объединившее Великороссию, поставило себе задачей
восстановить политическое и национальное единство всей Русской земли. Постановка
этой задачи и приступ к ее разрешению - только приступ - были главным делом
старой династии московских государей. Нам уже известны народные усилия,
потраченные на это дело, и успехи, достигнутые в этом направлении к концу XVI в.
В стремлении к этой цели общество в Московском государстве усвоило ту тяжелую
политическую организацию, которую мы изучали в предшествующем периоде. В XVII
в., после территориальных потерь Смутного времени, внешняя борьба стала еще
тяжелее; в том же направлении изменился и общественный строй. Под тягостями войн
с Польшей и Швецией прежние дробные экономические состояния, чины, еще
сохранявшие признали свободы труда и передвижения, в интересах казны и службы
были сбиты в крупные сословия, а большая часть сельского населения попала в
крепостную неволю. При Петре I основная пружина государственного порядка
достигла высшей степени напряжения: сословная разверстка специальных повинностей
стала еще тяжелее, чем была в XVII в. К прежним сословным тягостям он прибавил
новые, а тягчайшие прежние, рекрутскую и податную, распространил на классы,
дотоле свободные от государственных тягостей, на «вольных людей» и холопов. Так
зарождается в законодательстве смутная идея общих повинностей, если не
всесословных, то многосословных, которая в своей дальнейшей разработке обещала
значительную перемену в общественном строе. В то же время произошел перелом и во
внешней политике государства. Доселе его войны на Западе были в сущности
оборонительные, имели целью возвратить земли, недавно от него отторгнутые или
считавшиеся его исконным достоянием. С Полтавы они получают наступательный
характер, направляются к укреплению завоеванного Петром преобладания России в
Восточной Европе или к поддержанию европейского равновесия, как элегантно
выражались русские дипломаты. С поворота на этот притязательный путь государство
стало обходиться народу в несколько раз дороже прежнего, и без могучего подъема
производительных сил России, совершенного Петром, народ не оплатил бы роли,
какую ему пришлось играть в Европе. После Петра во внутреннюю жизнь государства
входит еще новое важное условие Под недостойными преемниками и преемницами
преобразователя престол заколебался и искал опоры в обществе, прежде всего в
дворянстве. В оплату за поддержку законодательство взамен мелькнувшей при Петре
идеи всесословных повинностей стало настойчиво проводить мысли о специальных
сословных правах. Дворянство эмансипируется, снимает с себя тягчайшую
повинность обязательной службы и не только удерживает старые свои права, но и
приобретает широкие новые. Крупицы этих даров падают и на долю высшего
купечества. Так всеми льготами и выгодами, какими могла поступиться власть,
осыпаны были верхи общества, а на низы свалили только тяжести и лишения. Если бы
народ терпеливо вынес такой порядок, Россия выбыла бы из числа европейских
стран. Но с половины XVIII в. в народной массе пробуждается тревожное брожение
особого характера. Мятежами обилен был и XVII в., и тогда они направлялись
против правительства, бояр, воевод и приказных людей. Теперь они принимают
социальную окраску, идут против господ. Сама пугачевщина выступала под
легальным знаменем, несла с собой идею законной власти против екатерининской
узурпации с ее пособниками - дворянами. Когда почва затряслась под ногами, в
правящих сферах по почину Екатерины II всплывает мысль об уравнении общества, о
смягчении крепостного права. Хмурясь и робея, пережевывая одни и те же планы и
из царствования в царствование отсрочивая вопрос, малодушными попытками
улучшения, не оправдывавшими громкого титула власти, довели дело к половине XIX
в. до того, что его разрешение стало требованием стихийной необходимости,
особенно когда Севастополь ударил по застоявшимся умам. Итак, ход дел в IV
периоде можно изобразить в таком виде: по мере того как усиливалось
напряжение внешней оборонительной борьбы, усложнялись специальные
государственные повинности, падавшие на разные классы общества, и по мере того
как оборонительная борьба превращалась в наступательную, с верхних общественных
классов снимались их специальные повинности, заменяясь специальными сословными
правами, и скучивались на низших классах; но по мере того как росло чувство
народного недовольства таким неравенством, правительство начинало подумывать о
более справедливом устройстве общества. Постараемся запомнить сейчас
изложенную схему: в ней заключается существенное значение изучаемого периода,
ключ к объяснению его важнейших явлений; эта схема послужит нам формулой,
раскрытием которой будет занято наше изучение IV периода.
РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.
Таковы порядок явлений IV периода и
их взаимоотношение. С этим порядком тесно связан рост политического сознания в
русском обществе, движение понятий, вскрывающихся в этих явлениях. К концу XVI
в. Московское государство устроилось, обзавелось обычными формами и орудиями
государственной жизни, имело верховную власть, законодательство, центральное и
областное управление, значительное приказное чиновничество, все более
размножавшееся, общественное деление, все более расчленявшееся, армию, даже
смутную мысль о народном представительстве; незаметно только государственных
долгов. Но учреждения сами по себе только формы: для успешного их действия
необходимо еще содержание, необходимы понятия, помогающие их деятелям уяснять
себе их смысл и назначение, необходимы, наконец, нормы и нравы, направляющие их
деятельность. Все это не дается сразу в готовом виде, а вырабатывается
напряженной мыслью, трудным, подчас болезненным опытом. Московские
государственные учреждения были готовы, когда угасала старая династия; но готовы
ли были московские государственные умы к тому, чтобы вести в них дела согласно с
задачами государства, в целях народного блага? Сделаем, как бы сказать,
суммарный подсчет политическому сознанию тогдашних московских людей и для того
приложим к этому сознанию возможно простейшее определение государства, чтобы
видеть, в какой мере понимали они основные необходимые элементы государственного
порядка согласно с сущностью и задачами государства. Эти основные элементы суть:
верховная власть, народ, закон и общее благо. Верховная власть в
Московском государстве, как мы видели (лекция XXVI), усвоила себе в титулах и
сказаниях несколько возвышенных определений; но это были не политические
прерогативы, а скорее торжественные орнаменты или дипломатические предвосхищения
вроде государя всея Руси. В будничном обиходе, в ежедневном обороте
понятий и отношений господствовала еще старая удельная норма, служившая
реальной, исторически сложившейся основой этой власти и состоявшая в том, что
государство московского государя считалось его вотчиной, наследственной
собственностью. Новые политические понятия, навязывавшиеся ходом событий,
неподатливое мышление перегибало в сторону этой привычной нормы. Московское
объединение Великороссии рождало в умах идею народного русского государства; но
эта идея, всею своею сущностью отрицавшая вотчину, выражалась в прежней
вотчинной схеме, заставлявшей мыслить государя всея Руси не как верховного
правителя русского народа, а только как наследственного хозяина,
территориального владельца Русской земли: «И вся Русская земля из старины от
наших прародителей наша отчина», - твердил Иван III. Политическое мышление
отставало от территориальных приобретений и династических притязаний, превращая
удельные предрассудки в политические недоразумения. И Другие элементы
государственного порядка преломлялись в тогдашнем сознании под действием этой
аномалии, соединявшей в одном существе верховной власти два непримиримых
свойства царя и вотчинника. Мысль о народе еще не слилась в тогдашнем
понимании с идеей государства. Государство понимали не как союз народный,
управляемый верховной властью, а как государев хозяйство, в состав которого
входили со значением хозяйственных статей и классы населения, обитавшего на
территории государевой вотчины. Потому народное благо, цель государства,
подчинялось династическому интересу хозяина земли и самый закон носил характер
хозяйственного распоряжения, исходившего из москворецкой кремлевской усадьбы и
устанавливавшего порядок деятельности подчиненного, преимущественно областного
управления, а всего чаще - порядок отбывания разных государственных повинностей
обывателями. В московском законодательстве до XVII в. не встречаем
постановлений, которые можно было бы признать основными законами, определяющими
строй и права верховной власти, основные права и обязанности граждан. Так,
основные элементы государственного порядка еще не поддерживались
соответственными их природе понятиями. Формы государственного строя,
складывавшиеся исторически, силой стихийной закономерности народной жизни, не
успели наполниться надлежащим содержанием, оказались выше наличного
политического сознания людей, в них действовавших. В том и состоит наибольший
интерес изучаемого периода, чтобы следить, как вырабатываются в общественном
сознании и вливаются в эти формы недостававшие им понятия, составляющие душу
политического порядка, как остов государства, ими оживляемый и питаемый,
постепенно превращается в государственный организм. Тогда и изложенные мной
антиномии утратят свою видимую несообразность, получат свое историческое
объяснение.
Таков ряд фактов, которые нам
предстоит изучить, ряд задач, которые мы должны разрешить. Перечисленные факты
нового периода мы будем наблюдать с того момента, когда на московском престоле
воцаряется новая династия.
НАЧАЛО СМУТЫ.
Но прежде чем совершилось это
воцарение, Московское государство испытало страшное потрясение, поколебавшее
самые глубокие его основы. Оно и дало первый и очень болезненный толчок движению
новых понятий, недостававших государственному порядку, построенному угасшею
династией. Это потрясение совершилось в первые годы XVII в. и известно в нашей
историографии под именем Смуты или Смутных времен, по выражению
Котошихина. Русские люди, пережившие это тяжелое время, называли его и именно
последние его годы «великой разрухой Московского государства». Признаки Смуты
стали обнаруживаться тотчас после смерти последнего царя старой династии, Федора
Ивановича; Смута прекращается с того времени, когда земские чины, собравшиеся в
Москве в начале 1613 г., избрали на престол родоначальника новой династии, царя
Михаила. Значит, Смутным временем в нашей истории можно назвать 14 - 15 лет с
1598 по 1613 г.; 14 лет в этой эпохе «смятения» Русской земли считает и
современник, келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын, автор сказания об
осаде поляками Троицкого Сергиева монастыря. Прежде чем перейти к изучению IV
периода, мы должны остановиться на происхождении и значении этого потрясения.
Откуда пошла эта Смута или эта «московская трагедия» (tragoedia moscovitiса),
как выражались о ней современники-иностранцы. Вот фабула этой трагедии.
КОНЕЦ ДИНАСТИИ.
Грозный царь Иван Васильевич года за
два с чем-нибудь до своей смерти, в 1581 г., в одну из дурных минут, какие тогда
часто на него находили, прибил свою сноху за то, что она, будучи беременной, при
входе свекра в ее комнату оказалась слишком запросто одетой, simplici veste
induta, как объясняет дело иезуит Антоний Поссевин, приехавший в Москву три
месяца спустя после события и знавший его по горячим следам. Муж побитой,
наследник отцова престола царевич Иван, вступился за обиженную жену, а
вспыливший отец печально удачным ударом железного костыля в голову положил сына
на месте. Царь Иван едва не помешался с горя по сыне, с неистовым воплем
вскакивал по ночам с постели, хотел отречься от престола и постричься; однако,
как бы то ни было, вследствие этого несчастного случая преемником Грозного стал
второй его сын царевич Федор.
ЦАРЬ ФЕДОР.
Поучительное явление в истории старой
московской династии представляет этот последний ее царь Федор. Калитино племя,
построившее Московское государство, всегда отличалось удивительным умением
обрабатывать свои житейские дела, страдало фамильным избытком заботливости о
земном, и это самое племя, погасая, блеснуло полным отрешением от всего земного,
вымерло царем Федором Ивановичем, который, по выражению современников, всю жизнь
избывал мирской суеты и докуки, помышляя только о небесном. Польский посол
Сапега так описывает Федора: царь мал ростом, довольно худощав, с тихим даже
подобострастным голосом, с простодушным лицом, ум имеет скудный или, как я
слышал от других и заметил сам, не имеет никакого, ибо, сидя на престоле во
время посольского приема, он не переставал улыбаться, любуясь то на свой
скипетр, то на державу. Другой современник, швед Петрей, в своем описании
Московского государства (1608 - 1611) также замечает, что царь Федор от природы
был почти лишен рассудка, находил удовольствие только в духовных предметах,
часто бегал по церквам трезвонить в колокола и слушать обедню. Отец горько
упрекал его за это, говоря, что он больше похож на пономарского, чем на
царского, сына. В этих отзывах, несомненно, есть некоторое преувеличение,
чувствуется доля карикатуры. Набожная и почтительная к престолу мысль русских
современников пыталась сделать из царя Федора знакомый ей и любимый ею образ
подвижничества особого рода. Нам известно, какое значение имело и каким почетом
пользовалось в древней Руси юродство Христа ради. Юродивый, блаженный,
отрешался от всех благ житейских, не только от телесных, но и от духовных
удобств и приманок, от почестей, славы, уважения и привязанности со стороны
ближних. Мало того, он делал боевой вызов этим благам и приманкам: нищий и
бесприютный, ходя по улицам босиком, в лохмотьях, поступая не по-людски,
по-уродски, говоря неподобные речи, презирая общепринятые приличия, он старался
стать посмешищем для неразумных и как бы издевался над благами, которые люди
любят и ценят, и над самими людьми, которые их любят и ценят. В таком смирении
до самоуничижения древняя Русь видела практическую разработку высокой заповеди о
блаженстве нищих духом, которым принадлежит царствие божие. Эта духовная нищета
в лице юродивого являлась ходячей мирской совестью, «лицевым» в живом образе
обличением людских страстей и пороков, и пользовалась в обществе большими
правами, полной свободой слова: сильные мира сего, вельможи и цари, сам Грозный,
терпеливо выслушивали смелые, насмешливые или бранчивые речи блаженного уличного
бродяги, не смея дотронуться до него пальцем. И царю Федору придан был русскими
современниками этот привычный и любимый облик: это был в их глазах блаженный на
престоле, один из тех нищих духом, которым подобает царство небесное, а не
земное, которых церковь так любила заносить в свои святцы, в укор грязным
помыслам и греховным поползновениям русского человека. «Благоюродив бысть от
чрева матери своея и ни о чем попечения имея, токмо о душевном спасении» - так
отзывается о Федоре близкий ко двору современник князь И. М. Катырев-Ростовский.
По выражению другого современника, в царе Федоре мнишество было с царствием
соплетено без раздвоения и одно служило украшением другому. Его называли
«освятованным царем», свыше предназначенным к святости, к венцу небесному.
Словом, в келье или пещере, пользуясь выражением Карамзина, царь Федор был бы
больше на месте, чем на престоле. И в наше время царь Федор становился предметом
поэтической обработки: так, ему посвящена вторая трагедия драматической трилогии
графа Ал. Толстого. И здесь изображение царя Федора очень близко к его
древнерусскому образу; поэт, очевидно, рисовал портрет блаженного царя с
древнерусской летописной его иконы. Тонкой чертой проведена по этому портрету и
наклонность к благодушной шутке, какою древнерусский блаженный смягчал свои
суровые обличения. Но сквозь внешнюю набожность, какой умилялись современники в
царе Федоре, у Ал. Толстого ярко проступает нравственная чуткость: это вещий
простачок, который бессознательным, таинственно озаренным чутьем умел
понимать вещи, каких никогда не понять самым большим умникам. Ему грустно
слышать о партийных раздорах, о вражде сторонников Бориса Годунова и князя
Шуйского; ему хочется дожить до того, когда все будут сторонниками лишь одной
Руси, хочется помирить всех врагов, и на сомнения Годунова в возможности такой
общегосударственной мировой горячо возражает: "Ни, ни!\ Ты этого, Борис, не
разумеешь!\ Ты ведай там, как знаешь, государство,\ Ты в том горазд, а здесь я
больше смыслю,\ Здесь надо ведать сердце человека".
В другом месте он говорит тому
же Годунову: "Какой я царь? Меня во всех делах\ И с толку сбить, и обмануть не
трудно,\ В одном лишь только я не обманусь:\ Когда меж тем, что бело иль черно,\
Избрать я должен - я не обманусь".
Не следует выпускать из виду
исторической подкладки назидательных или поэтических изображений исторического
лица современниками или позднейшими писателями. Царевич Федор вырос в
Александровской слободе, среди безобразия и ужасов опричнины. Рано по утрам
отец, игумен шутовского слободского монастыря, посылал его на колокольню звонить
к заутрене. Родившись слабосильным от начавшей прихварывать матери Анастасии
Романовны, он рос безматерним сиротой в отвратительной опричной обстановке и
вырос малорослым и бледнолицым недоростком, расположенным к водянке, с неровной,
старчески медленной походкой от преждевременной слабости в ногах. Так описывает
царя, когда ему шел 32-й год, висевший его в 1588 - 1589 гг. английский посол
Флетчер. В лице царя Федора династия вымирала воочию. Он вечно улыбался, но
безжизненной улыбкой. Этой грустной улыбкой, как бы молившей о жалости и пощаде,
царевич оборонялся от капризного отцовского гнева. Рассчитанное жалостное
выражение лица со временем, особенно после страшной смерти старшего брата, в
силу привычки превратилось в невольную автоматическую гримасу, с которой Федор и
вступил на престол. Под гнетом отца он потерял свою волю, но сохранил навсегда
заученное выражение забитой покорности. На престоле он искал человека, который
стал бы хозяином его воли: умный шурин Годунов осторожно встал на место бешеного
отца.
Б. ГОДУНОВ.
Умирая царь Иван торжественно признал
своего «смирением обложенного» преемника неспособным к управлению государством и
назначил ему в помощь правительственную комиссию, как бы сказать, регентство из
нескольких наиболее приближенных вельмож. В первое время по смерти Грозного
наибольшей силой среди регентов пользовался родной дядя царя по матери Никита
Романович Юрьев; но вскоре болезнь и смерть его расчистили дорогу к власти
другому опекуну, шурину царя Борису Годунову. Пользуясь характером царя и
поддержкой сестры-царицы, он постепенно оттеснил от дел других регентов и сам
стал править государством именем зятя. Его мало назвать премьер-министром; это
был своего рода диктатор или, как бы сказать, соправитель: царь, по выражению
Котошихина, учинил его над государством своим во всяких делах правителем, сам
предавшись «смирению и на молитву». Так громадно было влияние Бориса на царя и
на дела. По словам упомянутого уже кн. Катырева-Ростовского, он захватил такую
власть, «яко же и самому царю во всем послушну ему быти» Он окружался
царственным почетом, принимал иноземных послов в своих палатах с величавостью и
блеском настоящего потентата, «не меньшею честию пред царем от людей почтен
бысть». Он правил умно и осторожно, и четырнадцатилетнее царствование Федора
было для государства временем отдыха от погромов и страхов опричнины.
Умилосердился господь, пишет тот же современник, на людей своих и даровал им
благополучное время, позволил царю державствовать тихо и безмятежно, и все
православное христианство начало утешаться и жить тихо и безмятежно. Удачная
война со Швецией не нарушила этого общего настроения. Но в Москве начали ходить
самые тревожные слухи. После царя Ивана остался младший сын Димитрий, которому
отец по старинному обычаю московских государей дал маленький удел, город Углич с
уездом. В самом начале царствования Федора для предупреждения придворных интриг
и волнений этот царевич со своими родственниками по матери Нагими был удален из
Москвы. В Москве рассказывали, что этот семилетний Димитрий, сын пятой венчанной
жены царя Ивана (не считая невенчанных), следовательно, царевич сомнительной
законности с канонической точки зрения, выйдет весь в батюшку времен опричнины и
что этому царевичу грозит большая опасность со стороны тех близких к престолу
людей, которые сами метят на престол в очень вероятном случае бездетной смерти
царя Федора. И вот как бы в оправдание этих толков в 1591 г. по Москве
разнеслась весть, что удельный князь Димитрий среди бела дня зарезан в Угличе и
что убийцы были тут же перебиты поднявшимися горожанами, так что не с кого стало
снять показаний при следствии. Следственная комиссия, посланная в Углич во главе
с князем В. И. Шуйским, тайным врагом и соперником Годунова, вела дело
бестолково или недобросовестно, тщательно расспрашивала о побочных мелочах и
позабыла разведать важнейшие обстоятельства, не выяснила противоречий в
показаниях, вообще страшно запутала дело. Она постаралась прежде всего уверить
себя и других, что царевич не зарезан, а зарезался сам в припадке падучей
болезни, попавши на нож, которым играл с детьми. Поэтому угличане были строго
наказаны за самовольную расправу с мнимыми убийцами. Получив такое донесение
комиссии, патриарх Иов, приятель Годунова, при его содействии и возведенный два
года назад в патриарший сан, объявил соборне, что смерть царевича приключилась
судом божиим. Тем дело пока и кончилось. В январе 1598 г. умер царь Федор. После
него не осталось никого из Калитиной династии, кто бы мог занять опустевший
престол. Присягнули было вдове покойного, царице Ирине; но она постриглась.
Итак, династия вымерла не чисто, не своею смертью. Земский собор под
председательством того же патриарха Иова избрал на царство правителя Бориса
Годунова.
БОРИС НА ПРЕСТОЛЕ.
Борис и на престоле правил так же
умно и осторожно, как прежде, стоя у престола при царе Федоре. По своему
происхождению он принадлежал к большому, хотя и не первостепенному боярству.
Годуновы - младшая ветвь старинного и важного московского боярского рода,
шедшего от выехавшего из Орды в Москву при Калите мурзы Чета. Старшая ветвь того
же рода, Сабуровы, занимала очень видное место в московском боярстве; но
Годуновы поднялись лишь недавно, в царствование Грозного, и опричнина, кажется,
много помогла их возвышению. Борис был посаженым отцом на одной из
многочисленных свадеб царя Ивана во время опричнины, притом он стал зятем Малюты
Скуратова-Бельского, шефа опричников, а женитьба царевича Федора на сестре
Бориса еще более укрепила его положение при дворе. До учреждения опричнины в
Боярской думе не встречаем Годуновых; они появляются в ней только с 1573 г.;
зато со смерти Грозного они посыпались туда, и все в важных званиях бояр и
окольничих. Но сам Борис не значился в списках опричников и тем не уронил себя в
глазах общества, которое смотрело на них, как на отверженных людей,
«кромешников» - так острили над ними современники, играя синонимами
опричь и кроме. Борис начал царствование с большим успехом, даже с
блеском, и первыми действиями на престоле вызвал всеобщее одобрение. Современные
витии кудревато писали о нем, что он своей политикой внутренней и внешней «зело
прорассудительное к народам мудроправство показа». В нем находили «велемудрый и
многорассудный разум», называли его мужем зело чудным и сладкоречивым и
строительным вельми, о державе своей многозаботливым. С восторгом отзывались о
наружности и личных качествах царя, писали, что «никто бе ему от царских синклит
подобен в благолепии лица его и в рассуждении ума его», хотя и замечали с
удивлением, что это был первый в России бескнижный государь, «грамотичного
учения не сведый до мала от юности, яко ни простым буквам навычен бе». Но,
признавая, что он наружностью и умом всех людей превосходил и много похвального
учинил в государстве, был светлодушен, милостив и нищелюбив, хотя и неискусен в
военном деле, находили в нем и некоторые недостатки: он цвел добродетелями и мог
бы древним царям уподобиться, если бы зависть и злоба не омрачили этих
добродетелей. Его упрекали в ненасытном властолюбии и в наклонности доверчиво
слушать наушников и преследовать без разбора оболганных людей, за что и восприял
он возмездие. Считая себя малоспособным к ратному делу и не доверяя своим
воеводам, царь Борис вел нерешительную, двусмысленную внешнюю политику, не
воспользовался ожесточенной враждой Польши со Швецией, что давало ему
возможность союзом с королем шведским приобрести от Польши Ливонию. Главное его
внимание обращено было на устройство внутреннего порядка в государстве, на
«исправление всех нужных царству вещей», по выражению келаря А. Палицына, и в
первые два года царствования, замечает келарь, Россия цвела всеми благами. Царь
крепко заботился о бедных и нищих, расточал им милости, но жестоко преследовал
злых людей и такими мерами приобрел огромную популярность, «всем любезен бысть».
В устроении внутреннего государственного порядка он даже обнаруживал необычную
отвагу. Излагая историю крестьян в XVI в. (лекция XXXVII), я имел случай
показать, что мнение об установлении крепостной неволи крестьян Борисом
Годуновым принадлежит к числу наших исторических сказок. Напротив, Борис готов
был на меру, имевшую упрочить свободу и благосостояние крестьян: он,
по-видимому, готовил указ, который бы точно определил повинности и оброки
крестьян в пользу землевладельцев. Это - закон, на который не решалось русское
правительство до самого освобождения крепостных крестьян.
ТОЛКИ И СЛУХИ ПРО БОРИСА.
Так начал царствовать Борис. Однако,
несмотря на многолетнюю правительственную опытность, на милости, какие он щедро
расточал по воцарении всем классам, на правительственные способности, которым в
нем удивлялись, популярность его была непрочна. Борис принадлежал к числу тех
злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя, -
привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми
недостатками сердца и совести. Он умел вызывать удивление и признательность, но
никому не внушал доверия; его всегда подозревали в двуличии и коварстве и
считали на все способным. Несомненно, страшная школа Грозного, которую прошел
Годунов, положила на него неизгладимый печальный отпечаток. Еще при царе Федоре
у многих составился взгляд на Бориса, как на человека умного и деловитого, но на
все способного, не останавливающегося ни перед каким нравственным затруднением.
Внимательные и беспристрастные наблюдатели, как дьяк Ив. Тимофеев, автор
любопытных записок о Смутном времени, характеризуя Бориса, от суровых порицаний
прямо переходят к восторженным хвалам и только недоумевают, откуда бралось у
него все, что он делал доброго, было ли это даром природы или делом сильной
воли, умевшей до времени искусно носить любую личину. Этот «рабоцарь», царь из
рабов, представлялся им загадочною смесью добра и зла, игроком, у которого чашки
на весах совести постоянно колебались. При таком взгляде не было подозрения и
нарекания, которого народная молва не была бы готова повесить на его имя. Он и
хана крымского под Москву подводил, и доброго царя Федора с его дочерью ребенком
Федосьей, своей родной племянницей, уморил, и даже собственную сестру царицу
Александру отравил; и бывший земский царь, полузабытый ставленник Грозного Семен
Бекбулатович, ослепший под старость, ослеплен все тем же Б. Годуновым; он же,
кстати, и Москву жег тотчас по убиении царевича Димитрия, чтобы отвлечь внимание
царя и столичного общества от углицкого злодеяния. Б. Годунов стал излюбленной
жертвой всевозможной политической клеветы. Кому же, как не ему, убить и царевича
Димитрия? Так решила молва, и на этот раз неспроста. Незримые уста понесли по
миру эту роковую для Бориса молву. Говорили, что он не без греха в этом темном
деле, что это он подослал убийц к царевичу, чтобы проложить себе дорогу к
престолу. Современные летописцы рассказывали об участии Бориса в деле, конечно,
по слухам и догадкам. Прямых улик у них, понятно, не было и быть не могло:
властные люди в подобных случаях могут и умеют прятать концы в воду. Но в
летописных рассказах нет путаницы и противоречий, какими полно донесение
углицкой следственной комиссии. Летописцы верно понимали затруднительное
положение Бориса и его сторонников при царе Федоре: оно побуждало бить, чтобы не
быть побитым. Ведь Нагие не пощадили бы Годуновых, если бы воцарился углицкий
царевич. Борис отлично знал по самому себе, что люди, которые ползут к
ступенькам престола, не любят и не умеют быть великодушными. Одним разве
летописцы возбуждают некоторое сомнение: это - неосторожная откровенность, с
какою ведет себя у них Борис. Они взваливают на правителя не только прямое и
деятельное участие, но как будто даже почин в деле: неудачные попытки отравить
царевича, совещания с родными и присными о других средствах извести Димитрия,
неудачный первый выбор исполнителей, печаль Бориса о неудаче, утешение его
Клешниным, обещающим исполнить его желание, - все эти подробности, без которых,
казалось бы, могли обойтись люди, столь привычные к интриге. С таким мастером
своего дела, как Клешнин, всем обязанный Борису и являющийся руководителем
углицкого преступления, не было нужды быть столь откровенным: достаточно было
прозрачного намека, молчаливого внушительного жеста, чтобы быть понятым. Во
всяком случае трудно предположить, чтобы это дело сделалось без ведома Бориса,
подстроено было какой-нибудь чересчур услужливой рукой, которая хотела сделать
угодное Борису, угадывая его тайные помыслы, а еще более обеспечить положение
своей партии, державшейся Борисом. Прошло семь лет - семь безмятежных лет
правления Бориса. Время начинало стирать углицкое пятно с Борисова лица. Но со
смертью царя Федора подозрительная народная молва оживилась. Пошли слухи, что и
избрание Бориса на царство было нечисто, что, отравив царя Федора, Годунов
достиг престола полицейскими уловками, которые молва возводила в целую
организацию. По всем частям Москвы и по всем городам разосланы были агенты, даже
монахи из разных монастырей, подбивавшие народ просить Бориса на царство «всем
миром»; даже царица-вдова усердно помогала брату, тайно деньгами и льстивыми
обещаниями соблазняя стрелецких офицеров действовать в пользу Бориса. Под
угрозой тяжелого штрафа за сопротивление полиция в Москве сгоняла народ к
Новодевичьему монастырю челом бить и просить у постригшейся царицы ее брата на
царство. Многочисленные пристава наблюдали, чтобы это народное челобитье
приносилось с великим воплем и слезами, и многие, не имея слез наготове, мазали
себе глаза слюнями, чтобы отклонить от себя палки приставов. Когда царица
подходила к окну кельи, чтобы удостовериться во всенародном молении и плаче, по
данному из кельи знаку весь народ должен был падать ниц на землю; не успевших
или не хотевших это сделать пристава пинками в шею сзади заставляли кланяться в
землю, и все, поднимаясь, завывали, точно волки. От неистового вопля расседались
утробы кричавших, лица багровели от натуги, приходилось затыкать уши от общего
крика. Так повторялось много раз. Умиленная зрелищем такой преданности народа,
царица, наконец, благословила брата на царство. Горечь этих рассказов, может
быть преувеличенных, резко выражает степень ожесточения, какое Годунов и его
сторонники постарались поселить к себе в обществе. Наконец, в 1604 г. пошел
самый страшный слух. Года три уже в Москве шептали про неведомого человека,
называвшего себя царевичем Димитрием. Теперь разнеслась громкая весть, что
агенты Годунова промахнулись в Угличе, зарезали подставного ребенка, а настоящий
царевич жив и идет из Литвы добывать прародительский престол. Замутились при
этих слухах умы у русских людей, и пошла Смута. Царь Борис умер весной 1605 г.,
потрясенный успехами самозванца, который, воцарившись в Москве, вскоре был убит.
САМОЗВАНСТВО.
Так подготовлялась и началась Смута.
Как вы видите, она была вызвана двумя поводами: насильственным и таинственным
пресечением старой династии и потом искусственным ее воскрешением в лице первого
самозванца. Насильственное и таинственное пресечение династии было первым
толчком к Смуте. Пресечение династии есть, конечно, несчастье в истории
монархического государства; нигде, однако, оно не сопровождалось такими
разрушительными последствиями, как у нас. Погаснет династия, выберут другую, и
порядок восстанавливается; при этом обыкновенно не появляются самозванцы, или на
появившихся не обращают внимания, и они исчезают сами собою. А у нас с легкой
руки первого Лжедимитрия самозванство стало хронической болезнью государства: с
тех пор чуть не до конца XVIII в. редкое царствование проходило без самозванца,
а при Петре за недостатком такового народная молва настоящего царя превратила в
самозванца. Итак, ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы
сами по себе послужить достаточными причинами Смуты; были какие-либо другие
условия, которые сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих
настоящих причин Смуты надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими.
Реклама в
Интернет
![]()